

(Джон-Эмерик-Эдвард ДАЛЬБЕРГ-АКТОН, 1834-1902)
Overseas Publications International Ltd, London, 1992.

Коллеги! Сегодня я мысленно возвращаюсь ко времени, предшествовавшему середине столетия, когда я читал историю в Эдинбурге и страстно желал поступить в Кембриджский университет. Я обратился тогда в три колледжа, и, приходится признать, все три мне отказали. Этот колледж был первым, с которым я в ту пору тщетно связывал мои надежды, — и здесь, в более благоприятный час, спустя сорок пять лет, они, наконец, осуществились.
Я хотел бы начать мое обращение к вам с обзора того, что с полным основанием могу именовать единством Новой истории. В этом мне видится естественный подход к вопросам, уже на пороге неизбежно ожидающим всякого, кто занимает это место, которое мой предшественник сделал для меня столь грозным благодаря блеску своего имени.
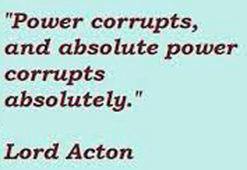
Вам нередко приходилось слышать, что Новая история есть предмет, которому нельзя приписать ни начала, ни конца. У него нет начала, потому что ткань человеческих судеб ткется плотно, без пропусков; потому что в обществе, как и в природе, структура непрерывна, и мы в состоянии проследить уходящую в глубь веков череду сцепленных и неподдающихся размежеванию событий до той поры, пока смутно не различим истоков Декларации независимости в лесах Германии. У нее нет конца, потому что, исходя из того же принципа, история совершившаяся и история совершающаяся суть вещи, с научной точки зрения неотделимые, а при разделении лишающиеся смысла.
«Политика, — сказал сэр Джон Сили [Sir John Robert Seeley, 1834-1895, английский эссеист и историк], — груба и пошла, когда она не смягчена историей, а история выхолащивается до литературы, когда она теряет из виду связь с практической политикой…» Легко видеть, в каком смысле это высказывание верно. Ибо наука политики есть единственная наука, намываемая потоком истории подобно тому как в речном песке намываются крупицы золота; причем знание прошлого, свод истин, открывшихся благодаря опыту, обладает громадным практическим значением, ибо выступает и как орудие, и как сила в созидании будущего. Во Франции к изучению настоящего относятся столь серьезно, что читается специальный курс современной истории и выпускаются соответствующие учебники. Не исключено, что по мере дальнейшего разделения труда, от которого выигрывают как наука, так и правительство, подобная же кафедра может в один прекрасный день быть учреждена и в нашей стране. Тем временем мы поступили бы предусмотрительно, отметив пункты, в которых две упомянутые эпохи расходятся. Ибо современность отличается от новой истории тем, что многие из текущих событий не могут быть доступны нам в необходимой полноте и определенности. Живущие не раскрывают своих секретов с откровенностью покойных; один из ключей всегда отсутствует, и для достижения необходимой точности должно сойти со сцены поколение. Слухи, молва и внешняя видимость суть дурные копии реальности, какой она доступна посвященным. Даже истинная причина события столь памятного, как война 1870 года, все еще окутана неизвестностью; большая часть наших представлений о ней рассыпалась за последние полгода в прах, и сверх того ожидаются еще новые показания важных свидетелей. История в гораздо большей мере покоится на достоверности фактов, нежели на их избытке.
Но как ни важна достоверность, еще большее значение имеет беспристрастие. Процесс, в результате которого были открыты и усвоены основополагающие принципы, отличается от процесса их практического применения; самые святые и бескорыстные наши убеждения должны формироваться в неподвижной атмосфере, над бурями и смятением нашей насыщенной деятельностью жизни. Ибо общество справедливо презирает человека, имеющего одно мнение для истории, другое — для политики, одно — для дел заграничных, другое — для внутренних, одно — для оппозиции, другое — для министерского кресла. История заставляет нас держаться твердых убеждений, уберегает от временного и преходящего. Политика и история переплетены, перемешаны, но вместе с тем и несопоставимы. Нам всецело принадлежит область, простирающаяся далее государственных интересов, неподведомственная юрисдикции правительств. Именно нам вверено не упускать из виду и из-под контроля движение идей, которые являются не следствием, но причиной событий; нам поручено даже до известной степени отдавать предпочтение Священной истории перед мирской, ибо такова серьезность затронутых в Писании вопросов и жизненная важность последствий возможных заблуждений, что именно Библия проложила путь исследованию и первой стала предметом пристального изучения для строгих мыслителей и выдающихся ученых.
Точно также имеется мудрость и глубина в философии, которая всегда усматривает в первопричине, истоке и величавой красоте истории единый согласованный эпос. При этом каждый историк должен знать, что достояние, власть над которым он получает, обретается ценой ограничения, призванного положить конец разногласиям. Путаница проистекает от теории Монтескье и мыслителей его школы, которые, приняв один и тот же термин для обозначения несхожих вещей, утверждают, что свобода есть первобытное состояние того племени, от которого мы произошли. Но если мы возьмем в расчет разум, а не материю, идеи, а не силу; если мы рассмотрим духовное богатство, сообщающее достоинство, стройность и интеллектуальную ценность истории, и его воздействие на идущую по восходящей линии жизнь человека, то мы утратим склонность объяснять всеобщее национальным, а цивилизацию — обычаем. Монолог Антигоны, фраза Сократа, несколько строк, вырезанных на индийской скале в эпоху до Второй пунической войны, следы безмолвного, но в то же время пророческого народа, обитавшего на берегах Мертвого моря и исчезнувшего после падения Иерусалима, — все это ближе к нашей жизни, чем наследственная мудрость варваров, откармливавших своих свиней желудями герцинской [эпохи палеозоя] Европы.
Итак, для наших сегодняшних целей я определяю новую историю как период, начавшийся четыреста лет назад [то есть около 1495 года], отграниченный отчетливо различимой чертой от непосредственно предшествующего ему времени и несущий в себе присущие только ему отличительные особенности. Новое время пришло на смену средневековью не в обычном порядке, с передачей внешних символов на права законного наследования. Нагрянув внезапно, оно установило новый порядок вещей, подчиненный закону обновления, который незаметно подтачивал древнее царство непрерывной преемственности. В эти дни Колумб перевернул представления о нашем мире, а заодно с ними — и условия производства, обогащения и власти; в эти дни Макиавелли освободил правительства от налагаемых законом ограничений; Эразм изменил стиль изучения древности, повернув поток из языческого русла в христианские каналы; Лютер разбил крепчайшее звено в цепи власти и традиции; наконец, Коперник вызвал к жизни неодолимую силу, навсегда наложившую печать прогресса на эпоху, которой предстояло наступить. Умы этих редкостных философов осеняет та же безграничная оригинальность, ведет тот же дерзкий отказ от завещанных предками установлений, которые обнаружили себя в открытии права помазанника Божьего и посягательстве на империализм Рима. Подобные проявления времени были явственны повсюду: одно и то же поколение узрело их воочию. Это было пробуждение к новой жизни; земля словно бы вышла на новую орбиту под воздействием прежде неведомых сил. После череды эпох, проникнутых чувством крутого сползания под откос и надвигающегося распада общества, эпох, руководимых обычаями и волей наставников, давно сошедших в могилы, шестнадцатое столетие шагнуло вперед с новым, еще неопробованным орудием в руках, готовое с надеждой смотреть в лицо непредвиденным переменам.
Это передовое движение глубокой чертой отделило новый мир от старого, и единство нового возвестило о себе охватившим весь мир духом исследования и открытия, неустанным в своей деятельности, выдержавшим неоднократные наступления реакции и продержавшимся до той поры, когда, с воцарением общих идей, которые мы называем Революцией, оно, наконец, возобладало. Последовательное освобождение, постепенный переход — со всем тем добрым и дурным, что ему сопутствовало, — от слепого подчинения к независимости есть явление первостепенной для нас важности, ибо историческая наука была одним из средств его конечного успеха. Если Прошлое выступает в роли препятствия и обузы, знание Прошлого является вернейшим и надежнейшим раскрепощением. Средневековье, давшее замечательных повествователей о событиях современных, не находило в себе достаточной серьезности и терпения для вдумчивого изучения событий прошлого. Люди той поры охотно шли на то, чтобы быть обманутыми, радовались возможности жить в полумраке вымыслов, в тумане недостоверных свидетельств, изобретаемых ради их собственного удовольствия, с готовностью приветствовали всевозможных фальсификаторов и плутов. Но постепенно атмосфера всеобщей узаконенной лжи редела, пока, наконец, в эпоху Возрождения искусство изобличения обмана ни забрезжило в умах даровитых итальянцев. Именно в Италии зародилось наше теперешнее понимание Истории; там явилась блистательная династия ученых, к которым мы по сей день обращаем свой взгляд как в поисках метода, так и в поисках материала. В отличие от дремотного доисторического мира наш мир видит необходимость и долг в том, чтобы овладеть более ранними временами, не упустить ничего из добытой ими мудрости и завещанных ими предостережений, — и потому посвятил свои лучшие силы и богатство верховной цели выявления заблуждений и утверждения выверенной истины.
В нашу эпоху вошедшей в возраст истории люди не соглашаются безропотно сносить немилые им условия существования. Почти ничто не беря на веру, они предприняли попытку выяснить, на какой почве они стоят, каким путем идут и почему эти почва и путь такие, а не иные. Поэтому и историк приобретает над современными людьми столь сильное и все возрастающее влияние. Патриархальный уклад уступил могуществу мысли, всегда изменчивой и быстро обновляющейся, дающей жизнь и движение, на крыльях пересекающей моря и границы, делающей тщетными всякие попытки удержать последовательный ход вещей в узких пределах изолированно живущих народов. Мысль заставляет нас осознавать существование обществ, охватывающих наше собственное, участвовать в их жизни, знакомиться с образцами удаленными и необычными, стремиться к высочайшим вершинам, перходя от одной из них к другой, жить в том обществе героев, святых и гениев, которое не под силу создать одной стране. Мы не можем позволить себе бездумно потерять из виду великих людей и достопамятные судьбы, мы обязаны, насколько это возможно, собирать и хранить все, достойное восхищения; ибо следствием безжалостных изысканий является то, что число подобных объектов неуклонно сокращается. Нельзя, например, вообразить себе опыта более будоражащего и воодушевляющего, чем проследить работу мысли Наполеона, замечательнейшего и с наибольшей полнотой изученного из людей, принадлежащих истории. Если обратиться к другой сфере, то близкое соприкосновение с личностью Фенелона открывает перед нами иной, возвышенный мир человека, ставшего драгоценнейшим образцом для политических деятелей, священнослужителей и литераторов, явившегося свидетелем против одного столетия — и предтечей другого, защитником бедных и обездоленных перед лицом их угнетателей, поборником свободы в эпоху самовластия, терпимости — в эпоху преследований, провозвестником гуманных добродетелей среди людей, привыкших безропотно приносить себя в жертву прихотям власти, человеком, о котором один из его врагов сказал, что его умственные способности простирались до того, чтобы вселять ужас, а другой — что из самых глаз его обильно исходило сияние гения. Ибо лишь величайшие и благороднейшие умы доставляют нам поучительные примеры. Человек заурядный, невысокой пробы — попросту не знает, что думать об ограниченном круге своих идей, как оторвать свои желания и волю от окружающей среды и возвыситься над гнетом времени, племенной принадлежности и обстоятельств, как избрать путеводную звезду, как исправить, проверить, испытать свои убеждения в свете внутреннего знания, как, заручившись поддержкой безупречной совести и совершенного мужества, переделать, пересоздать свою личность, данную ему рождением и образованием.
Что же касается нас самих, то если бы международная история даже и не была занята поисками возможности подняться на новый уровень и расширить свой кругозор, она все же оставалась бы обязательной для нас уже в силу той единственной и вполне частной причины, что парламентские отчеты моложе парламентов. Иностранец не видит в своем государственном устройстве ничего таинственного, никакого arcanum imperii [имперского секрета (лат)]. Для него в основание власти легли обнаженные в своей простоте положения; каждое двигательное начало, всякое назначение этого устройства рассчитаны так же ясно и определенно, как в часовом механизме. Но с нашей местной конституцией, нерукотворной и не занесенной на бумагу, а вместе с тем претендующей на то, что она развивается в соответствии с законом органического роста; с нашим неверием в ценность определений и общих принципов, с нашей привычкой полагаться на относительные истины — мы не можем надеяться получить у себя нечто равнозначное тем живым, долгим и плодотворным дебатам, которые в других обществах выявили сокровеннейшие тайны и глубочайшим образом упрятанные пружины политической науки, сделав их доступными для всякого, кто умеет читать. Дебаты учредительных собраний в Филадельфии, Версале и Париже, Кадисе и Брюсселе, в Женеве, Франкфурте, Берлине, едва ли не более всех прочих — в самых просвещенных штатах Американского Союза, исправив свои институты власти, заняли первенствующее место в политической литературе и предложили миру сокровища, которыми мы в нашей стране никогда не располагали.
Для историков последняя по времени часть их необозримого предмета в особенности драгоценна тем, что она неисчерпаема. Она — лучшее, что можно знать, ибо лучше всего изучена и отличается наибольшей определенностью. Сцены более ранние вырисовываются на фоне полного и непроглядного мрака. Мы весьма быстро достигаем области безнадежного неведения и бесплодных сомнений. Наоборот, сотни и тысячи людей новой истории оставили документальные свидетельства своей жизни и могут быть изучены на основе их частной переписки и судимы на основании их собственных признаний. Их деяния были совершены при свете дня. Все страны открывают свои архивы и приглашают нас проникнуть в сокровенные тайны государства. Когда Голлам [Henry Hallam, 1777–1859, английский историк] писал свою главу о Якове II, Франция была единственной державой, чьи документы были доступны. За нею последовали Рим и Гаага; затем открылись хранилища итальянских государств, наконец, архивы Пруссии, Австрии и, частично, Испании. Если Голлам и Лингард [John Lingard, 1771–1851, английский историк] зависели от Барийона [Paul Barillon d'Amoncourt, маркиз де Бранж, 1630–1691, посол Франции в Англии с 1677 по 1688 год; его сообщения Людовику XIV — важный источник исторических сведений], то их последователи черпают из дипломатических досье десяти правительств. В действительности имеется совсем немного тем, материалы по которым изучены настолько, что мы можем довольствоваться выполненной до нас работой и никогда не пожелаем заново проделать труд исторического осмысления. Отдельные периоды жизни Лютера и Фридриха, кое-что о Тридцатилетней войне, немало об американской революции и французской реставрации, ранние годы Ришелье и Мазарини, несколько томов С. Гардинера [Samuel Rawson Gardiner, 1829–1902, английский историк, исследователь эпохи английской революции] — вот наши земли, то там, то тут выступающие над необозримой гладью неведомого, подобно островам в Тихом океане. Даже говоря о самом Ранке, при всем почтении к этому плодовитейшему и одареннейшему из историков-землепроходцев Европы, который возглавил поистине героическое исследование архивов, мне не следовало бы допустить и мысли, что хотя бы один из его семидесяти томов не был перекрыт и частично улучшен. Именно благодаря по большей части его воодушевляющему влиянию наша область науки стала так неуклонно и последовательно развиваться, в результате чего превосходнейший мастер был вскоре превзойден лучшими учениками. Для одних только ватиканских архивов, в настоящее время открытых всем желающим, потребовалось, когда их отправляли во Францию, 3239 ящиков, причем это еще не богатейшая коллекция документов. Мы все еще находимся в самом начале документальной эры, которая будет тяготеть к тому, чтобы сделать историю независимой от историков, чтобы развивать фактические исследования вместо написания текстов, и в этом же смысле совершить революцию и в других областях науки.
Если же иметь в виду не историков, то перед ними мне следовало бы оправдать тот упор, который я делаю на Новую историю, не тем, что она изменила благосостояние или разорвала с прецедентом, не нескончаемостью перемен и ускорением развития, даже не все возрастающим преобладанием выработанного мнения над верованиями, знания — над мнением, но тем доводом, что она есть повесть о нас самих, рассказ о нашей собственной и ничьей больше жизни, об усилиях, все еще не отброшенных и не забытых, о проблемах, которые все еще занимают сердца людей и сбивают их с пути. Каждая ее часть насыщена бесценными уроками, которые нам приходится усваивать на собственном горьком опыте, приобретать дорогой ценой, если мы не научились извлекать пользу из оставленных нам примеров и наставлений тех, кто жил в этом мире до нас, притом в обществе, в своих основных чертах весьма похожем на наше. Изучение новой истории достигает своей цели даже и в том случае, если всего лишь делает нас мудрее, не побуждает к написанию книг, но вручает нам дар исторического мышления, который драгоценнее исторического исследования. Она — самая мощная составляющая формирования личности и воспитания таланта, и наши исторические суждения в той же мере сопряжены с верховными упованиями, с тем, чего ждет от человека Всевышний, что и наше общественное и частное поведение. Убеждения, процеженные сквозь все превратности и испытания Нового времени, несопоставимо выигрывают в основательности и силе перед убеждениями, смущаемыми всяким новым обстоятельством, которые часто немногим лучше обольщений, а то и просто чуждых мысли предрассудков.
Первой из забот человеческих является религия, и она — нагляднейшая черта столетий новой истории, ставших ареной развития протестантских движений. После времени крайнего равнодушия, невежества и упадка эти движения внезапно вырвались наружу в форме конфликта, которому предстояло бушевать так долго — и бесконечных последствий которого никто не мог вообразить. Догматическая убежденность — ибо я остерегаюсь говорить о собственно вере в связи со многими особенностями тех дней — догматическая убежденность возвысилась до универсального средоточия интересов и вплоть до Кромвеля оставалась величайшей силой и верховным побуждением общественных течений. Затем пришло время, когда интенсивность длительного конфликта и самая энергия антагонистической непоколебимости сторон несколько ослабли, и полемический дух начал высвобождать место духу научного исследования; а далее, по мере того, как буря ослабевала, обнажая область вопросов упорядоченных и согласованных, наибольшая часть распрей была оставлена невозмутимому и умиротворяющему попечению историков, наделенных, как водится, исключительным правом подыскивать делу религии спасительные оправдания от многих несправедливо возводимых на нее упреков и от куда более серьезного зла упреков справедливых. Ранке не уставал повторять, что церковные интересы преобладали в политике до самой Семилетней войны, причем последней вехой проникнутого ими общества считал битву при Лейтене [1757, в которой Фридрих II разгромил австрийскую армию Карла Лотарингского в ходе Семилетней войны], когда бранденбургские воинства шли в атаку на австрийцев, распевая лютеранские гимны. Это смелое предположение может быть оспорено даже применительно к современной эпохе. Когда сэр Роберт Пил [Peal, 1788–1850, британский политический деятель, премьер-министр, основатель консервативной партии] расколол свою партию, те из руководителей, которые за ним последовали, провозгласили единственной приемлемой основой восстановления партии принцип непримиримости по отношению к папизму. С другой стороны, когда в июле 1870 года разразилась франко-прусская война, единственным правительством, настаивавшим на тщете мирского могущества, было австрийское; а с тех пор мы еще были свидетелями падения Кастелара [Emilio Castelar y Ripoll, 1832–1899, президент первой испанской республики в 1873-74 годах] вследствие его попыток примирить Испанию с Римом.
Вскоре после 1850 года несколько наиболее дальновидных французов, сопоставивших факт прекращения прироста населения Франции с выразительной статистикой дальних владений Британской империи, предрекли грядущее преобладание английской расы. Но ни они и никто другой не могли тогда предсказать еще более внезапного возвышения Пруссии или того факта, что к концу столетия тремя наиболее важными странами на планете будут страны, главным образом принадлежащие к завоеваниям Реформации. Следовательно, и в религии, как и во множестве прочих областей, последние столетия оказались благоприятными для элементов нового, и центр тяжести цивилизации, переместившийся от народов средиземноморских к океаническим, от народов латинских к тевтонским, вместе с тем перешел и от католичества к протестантству.
В стороне от этих споров продолжали свой путь политическая, а с нею и историческая науки. Именно в период пуританства, до реставрации Стюартов, теология, мешаясь с политикой, произвела основополагающую перемену. Английская реформация семнадцатого столетия была по существу в меньшей мере борьбой церквей, чем борьбой сект, часто разделяемых не столько вопросами догматическими, сколько дисциплинарными и уставными. Сектанты не возлагали надежд и не строили планов возобладать в национальном масштабе, они больше были заняты индивидом, чем конгрегацией, молельнями — чем государственными церквами. Кругозор их был ограничен, но зрение обострено. Им открылось, что правительства и институты власти преходящи, как все земное, тогда как души человеческие бессмертны; что свобода отстоит от власти не дальше, чем вечность от времени; и что поэтому области принуждения должны быть положены установленные пределы, а то, что прежде осуществлялось правительством, внешней дисциплиной и организованным насилием, следует попробовать вручить разделению власти и подчинить разуму и совести свободных людей. Тем самым на смену господству воли над волей водворялось господство разума над разумом. Истинными апостолами терпимости являются не те, кто хотел защитить свои собственные интересы или кто вовсе не имел интересов, нуждающихся в защите, но те, для кого, безотносительно к их собственному делу, терпимость была политической, нравственной и богословской догмой, вопросом совести, вовлекающим и религию, и политику. Таким человеком был Соццини [Фаусто Паоло Соццини, иначе Фауст Социн, 1539–1604, итальянский богослов, основатель социнианской секты анти-тринитарной (отвергавшей триединство Бога) секты]; других — таких, как основатель общины Род-Айленда [Роджер Вильямс (1603-1683)] и патриарх квакеров Пенсильвании [Вильям Пенн, 1644–1618; название штата Пенсильвания образовано из фамилии Penn и слова sylvania (леса, чащобы)] — выдвинули сходные секты. Энергия, пыл и рвение, прежде работавшие на утверждение доктрины и ее авторитет, теперь были обращены на свободу проповеди и пророческого толкования. Самый воздух был насыщен душевным подъемом и возгласом обновления — но причина этому была все та же. Сделалось обыкновением гордиться тем, что религия есть мать свободы, а свобода — законный отпрыск религии; и это преобразование, это ниспровержение установившихся форм политической жизни, достигнутое за счет развития религиозной мысли, приводит нас в самое сердце моего предмета, к существеннейшему моменту, к средоточию исторических циклов вокруг нас. Начав с мощного религиозного движения и самого изысканного деспотизма, оно привело к первенству политики над божественным правом в жизни народов, и завершилось требованием в равной мере оградить каждого человека от каких бы то ни было помех со стороны другого человека в исполнении первым своего долга перед Богом, — так выявилась чреватая бурей и разрушением доктрина, составляющая тайную сущность Прав Человека и неистребимую душу Революции.
Когда мы рассматриваем, чем были враждебные свободе силы, их продолжительное сопротивление, их частое возвращение на историческую сцену; когда мы вглядываемся в критические периоды истории — годы 1685, 1772, 1808, моменты отчаянной и, казалось, навсегда проигранной и безнадежной борьбы, — то нам перестает казаться преувеличением мысль, что продвижение человечества в сторону самоуправления было бы остановлено, не обрети оно свою стойкость в религиозном подъеме семнадцатого столетия. Эта неизменность прогресса, прогресса в сторону организованной и гарантированной свободы, есть характерная черта новой истории, ее вклад в теорию Провидения. Многие, я в этом совершенно уверен, могли бы заметить, что все сказанное тут есть на деле не более чем старая повесть, тривиальное общее место; могли бы оспорить доказательство того, что человечество движется вперед за счет чего-то, отличного от разума, что оно становится свободнее, и что увеличение свободы вообще есть прогресс или приобретение. Мой учитель Ранке отвергал только что изложенную мною позицию; Конт, наставник лучших, полагал, что мы волочим длинную цепь, обремененные тяжестью и наделенные собственностью, которую не имеем возможности передать другим; и многие из наших классиков последнего времени — Карлейль, Ньюмен [Джон-Генри Ньюмен (правильнее: Ньюман), 1801–1890, английский богослов; перешел из англиканства в католицизм; кардинал с 1879 года], Фруд [James Anthony Froude, 1818–1894, английский историк] — были убеждены, что не существует прогресса, оправдывающего пути, которыми Бог являет себя человеку, и что самое укрепление свободы есть движение вспять и вслепую, как пятятся раки. Они полагают, что предубеждения и меры предосторожности против дурного правительства препятствуют установлению хорошего, что такого рода заботы способствуют вырождению морали и здравого смысла, отдавая способных на милость неспособным, низводя с престола просвещенную добродетель ради выгод людей посредственных. Эти люди утверждают, что великие и благотворные достижения принесла человечеству именно власть сосредоточенная, а не уравновешенная, нейтрализованная и распределенная, и что теория вигов, явившаяся на свет из распадавшихся религиозных общин, теория, согласно которой власть законна только в силу поставленных ей преград и что верховный правитель зависит от подданных, — что эта теория есть бунт против божественной воли, о которой всем своим течением возвещает река времен.
Я привел это возражение не для того, чтобы мы могли пуститься в решительный спор в области знания, не вполне совпадающей с нашей областью, но для того, чтобы определить мою цель через явное противоречие. Ни одна из политических догм не служит сейчас моей цели полнее и надежнее, чем сентенция историка, согласно которой он должен выискивать все мыслимые достоинства другой стороны и избегать какого бы то ни было пристрастия или благоприятного преувеличения, когда речь заходит о его собственной стороне. Подобно экономической заповеди laissez faire [невмешательства], которую восемнадцатое столетие вывело из Кольбера [Жан-Батист Кольбер (Colbert), 1619–1683, генеральный контролер (министр финансов) при Людовике XIV, сделавший, путем экономической реконструкции, Францию господствующей державой континента], этим правилом был сделан важный, если не окончательный, шаг в создании метода. Верно, что наиболее сильные и выразительные личности, такие как Маколей, Тьер, а с ними и два величайших из ныне живущих историков, Моммзен и Трейчке [Генрих Treitschke, 1834–96], оставляют на выходящих из-под их пера страницах явственную печать своей личности. Таково обыкновение, приличествующее великим людям, а великий человек может иной раз стоить нескольких безупречных историков. С другой стороны, имеется большая правда в высказывании, что историк выставляет себя в наилучшем виде там, где он по видимости отсутствует. Так что нашей цели лучше служит пример оксфордского епископа [то есть Вильяма Стаббса, 1825–1901, историка, Оксфордского епископа с 1888 года], который никогда не давал нам ни малейшего представления о том, что он думает об излагаемых фактах; а также пример его прославленного французского соперника, Фюстеля де Куланжа [Fustel de Coulanges, Numa Denis, 1830–1889], сказавшего наэлектризованной аудитории: «Не воображайте, что вы слушаете меня: моими устами говорит сама история [Ne m'applaudissez pas; ce n'est pas moi qui vous parle; c'est l'histoire qui parle par ma bouche. — Revue Historique, xli. 278.]» Мы не отыщем цельной философии, рассматривая четыре столетия в отрыве от трех тысячелетий: это был бы несовершенный и ошибочный подход, ведущий к ложному заключению. Но я надеюсь, что даже это узкое и не в надлежащей мере назидательное сечение истории поможет вам увидеть, что дело, с которым Христос явился среди людей, чтобы искупить грехи человечества, продолжается и набирает силу; что божественная мудрость обнаруживает себя не в совершенстве, но в исправлении мира; и что достигнутая свобода есть единственный этический результат, покоящийся на сошедшихся вместе условиях продвигающейся вперед цивилизации. Тогда вы поймете высказывание знаменитого философа о том, что история есть развернутое во времени свидетельство истинности религии [Лейбниц: Historiae ipsius praeter delectationem utilitas nulla est, quam ut religionis Christianae veritas demonstretur, quod aliter quam per historiam fieri non potest]. Но что же имеют в виду люди, провозглашающие, что свобода — это пальмовая ветвь, награда и венец, и видящие при этом, что для столь торжественно именуемой идеи имеется полных двести определений и что это богатство интерпретации термина принесло с собою больше кровопролития, чем что бы то ни было еще, исключая разве лишь теологию? Равнозначна ли свобода французской демократии, американскому федерализму, всецело владеющей умами итальянцев национальной независимости, или, быть может, это власть достойных, являющаяся идеалом немцев? Не знаю, войдет ли когда-либо в круг моих обязанностей проследить медленный прогресс этой идеи, ее продвижение сквозь многообразные в своей пестроте сцены нашей истории, и описать, как хрупкие умственные построения, затрагивающие природу совести, служили возвышению более благородной духовной концепции свободы, берущей совесть под защиту, — пока блюститель прав не развился в попечителя обязанностей, которые всегда являются источником прав, а сила, некогда почитавшаяся гарантией богатства земного, не была освящена как нерушимая гарантия ценностей духовных. Все, в чем мы сейчас нуждаемся, это рабочий подход к истории, ключ для ежедневного в нее проникновения, и наша непосредственная цель может быть достигнута без отсрочки, рассчитанной на то, чтобы угодить философам. Не задаваясь вопросом о том, как далеко Сараса [? Sarasa] или Кант, Батлер [вероятно, Самюэл Батлер, эссеист и сатирик, 1835–1902] или Винé [Александро-Родольф Vinet, 1797–1847, швейцарский богослов, моралист и критик] продвинулись в понимании непогрешимого голоса Всевышнего в душе человеческой, мы легко придем к соглашению в другом, именно: что там, где некогда безраздельно царил абсолютизм, опиравшийся на несокрушимые армии, концентрацию власти и собственности, приспешествующие церкви бесчеловечные законы, там он более не царит; что в наше время, когда коммерция восстала против землевладения, труд — против зажиточности, государство — против господствующих в обществе сил, разделение труда — против государства, мысль индивидов — против веками заведенных порядков, — ни правительства, ни меньшинства, ни большинство не могут более требовать прямого повиновения; и что там, где в течение долгого времени шли напряженные поиски и накопление опыта, где утвердились испытанные убеждения и глубоко усвоенное знание, где достигнут высокий уровень всеобщей нравственности, образования, мужества и самоограничения, там — и едва ли не только там — можно найти общество, демонстрирующее условия жизни, в сторону которых, пусть по временам и обращаясь вспять, человечество продвигалось и продвигается в течение выделенного периода времени. Вы распознаете это по внешним приметам, таким, как представительство, отмирание рабства, господство выношенного мнения и тому подобное; но еще убедительнее говорят об этом свидетельства не столь наглядные: возросшая социальная защищенность наиболее слабых общественных групп и свобода совести, которая, обретя действенную защиту, сама ставит под свою защиту все прочее.
Здесь мы достигли точки, в которой мое рассуждение грозит обернуться противоречием. Если вершинные завоевания общества чаще достигались путем насилия, чем путем уступок и снисходительности, если подспудный ход вещей направлен в сторону судорог и катастроф, если своей религиозной свободой мир обязан Голландской революции, конституционным правительством — Английской, федеральным республиканизмом — Американской, политическим равенством — Французской, то спрашивается, что же ожидает нас, вдумчивых и внимательных исследователей захватывающего прошлого? Торжество революционера унижает, если не уничтожает историка. Революция минувшего столетия, по мнению таких заслуживающих доверия ее истолкователей, как Джефферсон и Сьейес, на деле отвергает историю. Их последователи не видят смысла в том, чтобы знакомиться с историей, готовы уничтожить ее свидетельства, а вместе с ними — и ни в чем не повинных профессоров. Но неожиданная истина, более причудливая, чем вымысел, состоит в том, что это вовсе не крушение, но обновление истории. Прямо и косвенно, через развитие и через реакцию, она получила толчок, сделавший ее бесконечно более действенным фактором цивилизации, чем она была прежде, причем в сфере человеческой мысли началось движение более глубокое и серьезное, чем если бы речь шла о простом возрождении древней учености. Это раскрепощение, этот отказ от уз, в условиях которого мы живем и трудимся, заключается, прежде всего, в отходе от духа отрицания, отвергающего закон роста, отчасти же — в усилиях классифицировать и упорядочить революцию и объяснить ее действием естественных исторических причин. При этом ряд консервативных авторов, объединяемых принадлежностью к романтической, или исторической, школе и живших в Германии, расценивает революцию как чужеродный эпизод, как заблуждение века, болезнь, лечить которую надлежит путем исследования ее происхождения, не жалея усилий на то, чтобы соединить разорванные связи и восстановить нормальные условия естественного постепенного развития. Либеральная школа, представители которой жили во Франции, объясняла и оправдывала революцию, видя в ней правильный и закономерный результат хода исторического развития, зрелый плод истории. Таковы два основных направления мысли поколения, которому мы обязаны научными представлениями и методами, сделавшими историю столь непохожей на ту, какою ее видели в нашем веке последние из представителей минувшего столетия. При этом если говорить о каждом из новаторов по отдельности, то необходимо признать, что они ни в чем не превосходили старых мыслителей. Муратори [Людовико-Антонио Muratori, 1672–1750, итальянский историк, открывший самый древний фрагмент Нового завета] не уступал новым авторам начитанностью, Тиймон [Louis-Sébastien le Nain de Tillemont, 1637–1698, французский религиозный историк] — точностью, Лейбниц — талантом, Фрере [Nicolas Fréret, 1688–1749, французский ученый, посаженный (на три месяца) в Бастилию за утверждение, что франки были не греками или троянцами, а союзом южно-германских племен] — остротою, Гиббон — искусством композиционных построений. Тем не менее во второй четверти девятнадцатого столетия для историков началась новая эра.
Мне следует в особенности указать на три момента из числа тех многих, которые в итоге составили изменившийся к лучшему порядок вещей. О неиссякаемой лавине нового и непредвиденного материала говорить почти не приходится. В течение нескольких лет в Париже был открыт доступ к секретным архивам папского престола; но тогда их время еще не пришло, и едва ли не единственный человек, который ими воспользовался, был сам архивариус. Ближе к 1830 году развернулось широкое изучение первоисточников, тон в котором задавала Австрия. Причем Мишле, претендовавшего около 1836 года на первенство, на самом деле обошли такие его соперники как Макинтош [?], Бухольтц [в оригинале: Bucholtz; может быть, Buchholtz? был прусский дипломат с таким именем: Ludwig Heinrich Buchholtz (1740–1811)] и Минье [François-Auguste-Marie Mignet, 1796–1884, французский историк и архивист]. Новый и более продуктивный период начался тридцать лет спустя, когда война 1859 года [Пьемонт и Франция (Наполеона III) победили Австрию; Ломбардия отошла к Пьемонту, Савойя и Ницца — к Франции] открыла для нас трофеи Италии. Одна за другой все страны получили возможность исследовать ее материалы; их оказалось столько, что тут в пору говорить не о пересыхающем потоке, но об опасности утонуть в нем. В итоге стало ясно, что целой жизни, отданной занятиям в даже самом большом собрании печатных книг, недостаточно для подготовки настоящего специалиста по новой истории. Но и обратившись от литературы к источникам, от Бернета [вероятно, Gilbert Burnet, 1643–1715, шотландский (британский) историк, епископ] к Пококку [? Pocock], от Маколея к мадам Кампана [? Madame Campana], от Тьера к нескончаемой переписке Бонапартов, историк все же продолжал чувствовать по временам неотложную потребность навести справки в Венеции или в Неаполе, в библиотеке герцога Оссуны [Ossuna library] или в Эрмитаже.
В настоящее время эти вопросы нас не беспокоят. Ибо наша цель, то важнейшее, чему следует научиться, есть не искусство накопления сведений, но более высокое искусство исследования накопленного, отделения истины о вымысла, несомненного от сомнительного. Изучение истории сообщает новую силу нашему разуму, исправляет ход нашей мысли, расширяет наш кругозор не столько через полноту эрудиции, сколько через основательно развитое критическое мышление. Поэтому вступление критика на место, прежде принадлежавшее неутомимому компилятору, художнику красочного повествования, искусному портретисту исторических личностей, убедительному адвокату добра и других мотивов, можно с полным правом назвать преобразованием правления или сменой династии в королевстве истории. Ибо лишь критически настроенный ум, натолкнувшись на интересное высказывание, начинает с того, что ставит его под сомнение. Он остается в нерешительности, пока не подвергнет свой источник трем испытаниям. Прежде всего он спрашивает себя, прочел ли он отрывок так, как автор написал его. Ибо переписчик, редактор, официальный и неофициальный цензоры, поставленные над редактором, подчас исхитряются проделывать с текстом престранные фокусы и должны за многое нести ответственность. Но если на них и нет вины, то может еще оказаться, что автор переписывал свою книгу дважды, и вы в состоянии отыскать первичные наброски, последующие варианты, вставки и сокращения. Далее является вопрос о том, где писатель получил изложенные им сведения. Если он пересказывает другого автора, это может быть установлено, после чего только что описанное исследование должно быть повторено. Если он почерпнул свои данные из неопубликованных документов, необходимо попытаться отыскать и изучить их, и в том пункте, где вы либо теряете след, либо находите, откуда бьет ключ, перед вами встает вопрос о достоверности сообщения. Личность автора, его положение, его прошлое и вероятные побуждения должны быть тщательно изучены; именно это, в меняющемся сообразно конкретному случаю смысле слова, может быть названо высшим критическим подходом, сравнительно с рабским и часто механическим прослеживанием высказываний до их корней. К историку надлежит относиться как к свидетелю, а значит, и не брать его слов на веру, пока его искренность не установлена с очевидностью. Суждение, предписывающее считать человека невинным, пока его вина не доказана, на историка не распространяется.
Итак, оценка документов, взвешивание свидетельств является для нас занятием, в большей мере заслуживающим похвалы, чем потенциальное открытие новых материалов. Причем новая история, представляющая собою широчайшую область знания, не служит лучшим объектом для усвоения круга наших обязанностей; ибо она слишком широка, и собранный в ней урожай еще не столь основательно просеян, как в области древней истории и средневековья до крестовых походов. Разумнее рассмотреть, что сделано при изучении вопросов более обозримых и ограниченных, таких как источники плутархова Перикла, два трактата об афинском государстве, происхождение послания к Диогнету [апологетический христианский документ второго или третьего века; автор и адресат неизвестны], годы жизни св. Антония, — и, взяв в качестве наставника Швеглера [Albert Schwegler, 1819–57, немецкий мыслитель и богослов], проследить, как начиналась эта аналитическая работа. Еще более убедительным, ибо здесь достигнуто больше определенности, явилось критическое рассмотрение средневековых писателей, проделанное параллельно с их новыми изданиями, на что было затрачено невероятное количество труда, и тут невозможно указать лучшего примера, чем предисловия епископа Стабба. Важным событием в этом ряду явился известный выпад против Дино Компаньи [1255–1324; младший современник Данте, как и он, белый гвельф; оставил Хронику современных событий, считающуюся заслуживающей полного доверия (опубликована только в 1726 году)], вызвавший лучших итальянских ученых на спор, который не назовешь неравным. Когда нам говорят, что Англия отстает от европейского континента в смысле своей способности к критике, мы должны признать, что это справедливо лишь в количественном отношении, и неверно, если речь идет о качестве проделанной работы. Поскольку их нет более в живых, я должен сказать о двух кембриджских профессорах, Лайтфуте и Хорте [Joseph Barber Lightfoot, 1828–89, Fenton John Anthony Hort, 1828–1892, английские исследователи Нового завета], что ни один француз или немец ни в чем не превзошел критический дар этих ученых.
Третьим отличительным признаком поколения историков, вырывших столь глубокий ров между историей, известной нашим дедам, и историей, представшей нашему взору, явился принцип беспристрастия. Для рядового человека это слово значит не более чем справедливость. Он полагает, что может провозглашать достоинства своей собственной религии, своей благоденствующей и просвещенной страны, своих политических убеждений, будь то демократия, либеральная монархия или исторический консерватизм, не совершая прегрешения и не нанося никому обиды, коль скоро он при этом отдает должное относительным, хотя и низшим сравнительно с его собственными, достоинствам других и никогда не называет людей праведниками или негодяями, исходя из того, на чьей они стороне. Он полагает, что не существует такого беспристрастия, как беспристрастие судьи, отправляющего преступника на виселицу. Но те, кто с компасом критического мышления пускались, не имея карты, в плавание по просторам оригинального исследования, отправлялись от другого взгляда. Чтобы возвыситься над вымыслом, уловками и спорами, история должна иметь под собою документы, а не мнения. Историки этого поколения исходили из собственного понимания истины, выработанного на основе преодоления все более возрастающих трудностей в отыскании частичных истин — и еще больших трудностей выражения найденного. Они считали возможным писать с такой подробной добросовестностью, простотой и проницательностью, что увлекали за собою каждого человека доброй воли и, каковы бы ни были его чувства, вынуждали его соглашаться с ходом их мысли. Идеи, которые в религии и в политике выступают в форме истины, в истории действуют как силы. Их необходимо уважать и недопустимо утверждать. Посредством высочайшей сдержанности, усиленного самоконтроля, своевременного и осторожного бесстрастия, с помощью тайны в вопросах вынашиваемого ею приговора — история может быть поднята выше раздоров и сделана признанным трибуналом, единым для всех. Если люди до конца искренни и не руководствуются в своем суждении другими критериями, кроме очевидной нравственности, то христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Юлиана, католик и протестант — Лютера, виги и тори — Вашингтона, патриот французский и патриот немецкий — Наполеона.
Я с почтительной благодарностью говорю об этой школе, много сделавшей для утверждения исторической правды и по праву царившей в умах. Она дает дисциплину, которую каждому из нас было бы полезно испытать и усвоить, — но вслед за тем, пожалуй, и оставить. Ибо в ней сосредоточена не вся правда. Очерк Ланфрея [Lanfrey] о Карно, революционные войны в изложении Шюке [Chuquet], военные мемуары Роупса [Ropes], Женева времен Кальвина как она описана у Роже — дадут вам примеры более здоровой, но и более трудной беспристрастности, чем только что мною описанная. Ренан называет ее роскошью богатого и аристократического общества, которая обречена погибнуть в ходе эпохи свирепой и отвратительной борьбы. В наших университетах она имеет пышно обставленное пристанище; и чтобы послужить ее делу, которое свято, ибо является делом истины и чести, мы можем позаимствовать полезный урок из в высшей степени ненаучной области общественной жизни. В этой области человеку не требуется продолжительного времени для того, чтобы уяснить себе, что ему противостоят люди более достойные и талантливые, чем он сам. И если задаться целью понять космическую силу и истинную взаимосвязь идей, то источником бодрости и превосходной школой принципиальности будет правило: не давать себе отдыха до тех пор, пока, отстраняя заблуждения, предрассудки, преувеличения, порождаемые нескончаемыми спорами и вытекающими из них предосторожностями, мы не выдвинули против наших оппонентов более сильных и выразительных соображений, чем представляемые ими. За одним исключением, к которому мы подойдем прежде, чем я отпущу вас, не существует заповеди, менее добросовестно соблюдаемой историками.
Ранке является истинным представителем эпохи, которая положила основание современному исследованию истории. Он учил, что это исследование должно быть критическим, лишенным красок и новым. Мы встречаем этого мастера на каждом шагу, он сделал для нас больше, чем кто-либо другой. Имеются книги более сильные, чем любая из оставленных им, некоторые могут превосходить его в политической или религиозной, в философской проницательности, в живости творческого воображения, в оригинальности, возвышенности и глубине мысли; но по объему важной и прекрасно выполненной работы, по влиянию на талантливых людей, по количеству знания, полученного и используемого человечеством — и несущего на себе печать его мысли, он не имеет себе соперника. Я видел его в последний раз в 1877 году, когда он выглядел поникшим, был слаб, почти полностью слеп и едва мог читать и писать. Свои прощальные слова ко мне он произнес с подчеркнутой сердечностью, и я с грустью подумал, что следующий раз услышу о нем, когда до меня дойдет весть о его смерти. Два года спустя он приступил к созданию своей всеобщей истории, семнадцать томов которой, написанные, когда автору перевалило за восемьдесят три года и далеко уводящие в глубь средневековья, хоть и несут на себе некоторый отпечаток увядания, но являются достойным завершением этой поразительной карьеры в литературе.
Его призвание определилось в молодости, при чтении Квентина Дорварда. Потрясенный тем, что Людовик XI в описании Вальтера Скотта не соответствует образу этого короля в мемуарах Коммина [Philippe de Commynes/Comines, 1447–1511, французский дипломат и историк], Ранке решил, что отныне и впредь его верховной целью, не допускающей никаких уклонений, будет: в суровой неукоснительности подчиниться и с полной самоотдачей следовать своим авторитетам. Он решился до конца подавить в себе поэта, патриота, приверженца религии и носителя политических взглядов, не поддерживать никакого дела, отступиться от своих книг — и не писать ни строки, потворствующей его чувствам или приоткрывающей его частные взгляды и убеждения. Когда усердный богослов, подобно ему писавший об эпохе Реформации, приветствовал его как товарища, Ранке отклонил это сопоставление. «Вы, — сказал он, — в первую очередь христианин, я — прежде всего историк: между нами — пропасть…» Он стал первым выдающимся писателем, на деле воплотившим то, что Мишле определил как le désintéressement des morts [беспристрастие мертвых (фр.)]. Это был его нравственный триумф: он сумел удержаться от произнесения приговоров, показать, что многое может быть сказано в пользу каждой из сторон, и оставить прочее Провидению. Он, вероятно, почувствовал бы расположение к двум знаменитым врачам, живущим сейчас в Лондоне, о которых рассказывают, что когда они не сумели сойтись во мнениях по поводу одного пациента и ответили уклончиво, а глава семьи потребовал определенного мнения, то они сказали ему, что им это не под силу, но что он без труда найдет пятьдесят других врачей, которые не затруднятся сделать это.
Нибур утверждал, что летописцы, писавшие до изобретения книгопечатания, обыкновенно всякий раз копировали какого-то одного своего предшественника и почти не имели представления о тщательном изучении и одновременном использовании нескольких источников. Это утверждение блестяще подтвердил Ранке; с присущими ему легкостью, искусством и опытностью он критически рассмотрел и разобрал важнейших историков, от Макиавелли до автора Mémoires d’un Homme d’État, причем с такой неумолимой строгостью, с какой прежде к представителям нового времени не подходили. Но если Нибур отбросил традиционное повествование, заменив его своим собственным построением, то именно Ранке было предназначено воздать должное мастерам прошлого: не подорвать, но сохранить авторитет тех из учителей, которым, в присущей им области, он мог всецело следовать и повиноваться. И хотя его преемники в следующем поколении не уступали ему в мастерстве и проделали еще большее количество тщательной и кропотливой работы, именно превосходные трактаты Ранке, которых он оставил множество и в которых во всем блеске обнаружил это свое искусство, являются лучшим введением в нашу область, способным научить нас тем методам, которые на памяти живущих обновили исследования в новой истории. Современники Ранке, уставшие от его нейтралитета, от неопределенности его позиции, а также от полезной, но второстепенной работы, выполненной теми из начинающих ученых, которые брали в долг его жезл и стило, — эти современники думали, что слишком большое значение придавалось вещам скромным и предварительным, которые человек сам может завершить для себя в тиши своего кабинета, с меньшими притязаниями на общественное внимание: ведь способность к этому уместно предположить в людях, искушенных в подобного рода фундаментальных частностях. И вот мы, которым предстоит освоить эти присущие нашей профессии частности, должны для этого углубиться в изучение великих примеров. Если исключить чисто техническую сторону, то метод есть не более чем переложение и преломление обычного здравого смысла, и лучше всего он усваивается из рассмотрения творений талантливейших представителей всех мыслимых областей умственной деятельности. Бентам признавал, что ему меньше дало чтение трудов по его специальности, чем сочинений Линнея и Куллена [William Cullen, 1710–1790, шотландский врач и химик]; Бруэм [Henry Peter Brougham and Vaux, 1778–1868, британский юрист и политический деятель] советовал студентам, изучающим юриспруденцию, начинать с Данте. Либих говорил, что его Органическая химия есть переложение идей Логики Милля; замечательный врач, которого мне не следует называть по имени, дабы он ненароком не услышал меня, для расширения своих медицинских познаний читал три книги: Гиббона, Гроута [George Grote, 1794–1871, английский историк] и Милля. Он не устает повторять: «Образованный человек не может стать таковым на основе изучения только одного предмета, но должен испытать на себе действие мысли естественнонаучной, гражданской и нравственной…» Я привожу здесь замечательные слова моего коллеги для того, чтобы ответить на них встречной посылкой. Если люди естественных наук чем-либо обязаны нам, то и мы можем научиться у них многим существенным вещам. Ибо они покажут нам, как осуществить доказательство, как удостовериться в полноте и точности суждения с помощью индуктивного метода, как исходя из разумных ограничений построить гипотезу, как с надлежащей осторожностью воспользоваться аналогией. Это они обладают тайной того загадочного свойства разума, которое обращает ошибку в служанку истины, так что в итоге истина медленно, но необратимо торжествует. Их достояние — логика открытия, картина поступательного движения познания и развития идей, которые — притом, что земные нужды и страсти человеческие остаются почти неизменными — есть верительная грамота прогресса, свидетельство жизни истории. Часто они дают нам бесценный совет именно тогда, когда сосредоточены на своем предмете и обращаются к людям своей области знания. Вспомните Дарвина, уделявшего внимание только тем утверждениям, которые создавали трудности на его пути; или французского философа, жаловавшегося, что его работа стоит, поскольку он не находит более фактов, противоречащих его построениям; или Баэра [Karl Ernst von Baer, 1792–1876, биолог, балтийский немец из Эстонии, основоположник эмбриологии], который считает, что заблуждения, обнаруживавшие новые препятствия, вознаграждали его почти столь же щедро, как истина, — ибо, по словам сэра Роберта Бола [может быть, Sir Robert Stawell Ball, 1840-1913, английский астроном], мы часто учимся именно на препятствиях: на их рассмотрении и обдумывании. Фарадей заявляет, что «в познании лишь тот достоин осуждения и презрения, кто не пребывает в переходном состоянии». И Джон Хантер [1828–93, английский хирург и биолог] говорил обо всех нас, когда сказал: «Никогда не спрашивайте меня о том, что я уже сказал или написал: спросите меня о моих сегодняшних мыслях — и я вам отвечу…»
С первых лет нашего века представители всех сфер умственной деятельности вносили свой вклад в оживление и обогащение нашей жизни. Правоведы дали нам закон непрерывного роста, преобразовавший историю из летописи случайных происшествий в некое подобие чего-то органически развивающегося. К 1820 году богословы начали перерабатывать свои учения в духе принципа развития, о котором много позже Ньюмен сказал, что теория эволюции явилась, чтобы подтвердить его. Даже экономисты, люди практические, растопили свою суховатую науку, обратив ее в текущую историю и утверждая при этом, что такова не вспомогательная, но подлинная тема их исследования. Философы утверждают, что уже в 1804 году они начали преклонять свою метафизическую выю под историческое ярмо. Они учили, что философия есть лишь исправленная сумма учений всех философов, что системы уходят вместе с запечатлевшимися в них эпохами, что проблема состоит лишь в том, чтобы сфокусировать блуждающие лучи уцелевшей истины, и что история есть источник философии, если не полное ее замещение. Конт начал одну из своих книг словами о том, что преобладание истории над философией является отличительной чертой его времени. С тех пор как Кювье впервые выявил совпадение путей индуктивного открытия и цивилизации, пришла очередь естественных наук, которые тоже включились в процесс насыщения эпохи исторической мыслью и подчинения всех вещей тому влиянию, для которого были выдуманы такие принижающие названия как историцизм и озабоченность историей [historical-mindedness].
Я должен еще сказать несколько осуждающих слов о ряде известных недостатков, представляющих собою исправимые изъяны психики и сознания и являющихся нашими общими бедами. Во-первых, это недостаток активного понимания последовательности и действительной значимости событий; будучи гибельным для политического деятеля, он в то же время разрушителен и для историка, ибо историк есть политик, обращенный лицом к прошлому. Подход к делу, при котором исследователь видит лишь ничего не значащую, не пробуждающую мысли поверхность, является не более чем игрой в науку, — и это наш обычный подход. Затем, мы имеем курьезную склонность отбрасывать, а отчасти и забывать то, что было наверное известно до нас. Один-два примера пояснят мою мысль. Известнейший английский писатель рассказывает, как при нем титул тори был присвоен консервативной партии. Ибо в то время это была презрительная кличка людей, которым ирландское правительство предлагало деньги за выдачу преступников, — так что если я и в самом деле излишне уповаю на прогресс, то по крайней мере могу с некоторым самодовольством указать на этот случай как свидетельство улучшения наших манер. Однажды Тит Оутс [Titus Oates, 1649–1705, авантюрист от религии, сфабриковавший так называемый Папский заговор 1678 года], утратив терпение и пребывая в гневе на людей, которые отказывались ему верить, ухватился за обидное и язвительное словцо, годившееся для кипевшего на его устах проклятия, и начал называть консерваторов партией тори. Имя удержалось; но его происхождение, засвидетельствованное авторитетом Дефо, выпало из памяти людей, как если бы одни стыдились своего крестного отца, а других не беспокоило, что их станут отождествлять с его делом и личностью. Я уверен, что все вы знаете, историю новости о Трафальгаре, и как двумя днями после ее получения Питт, увлекаемый возбужденной толпой, отправился обедать в город. Когда пили за здоровье министра, спасшего свою страну, он отклонил эти похвалы, заявив: «Англия сама спасла себя своею собственной духовной мощью; и я надеюсь, что спасшая себя своей мощью спасет Европу своим примером…» Когда в 1814 году его надежда осуществилась, у нас вспомнили последнюю речь великого оратора и выбили медаль с его изречением, целиком уложившимся в четыре слова компактной латыни: Seipsam virtute, Europam exemplo [Себя доблестью, Европу примером]. Но ведь именно тогда, чуть ли не в самый день своего последнего появления на публике, Питт узнал о полном торжестве французов в Германии и о капитуляции Австрии в Ульме. Его друзья не сомневались, что борьба на суше совершенно безнадежна, что пришло время оставить континент завоевателю и отступить во владения нашей новой морской империи. Питт не согласился с ними. Он сказал, что Наполеон столкнется с настоящим препятствием там, где встретит всенародный отпор, что этот отпор ждет его в Испании и что настанет время, когда Англия вторгнется на территорию Франции. При этих словах присутствовал генерал Уэлсли [с 1809 года — Веллингтон], только что вернувшийся из Индии. Десять лет спустя, когда ему выпало завершить то, что Питт с прозорливостью ясновидящего предрек в последние дни своей жизни, он пересказал в Париже эту сцену и эти слова, которые я без колебания решаюсь назвать самым поразительным и полным предсказанием во всей истории политики, которая вообще отнюдь не бедна предсказаниями.
Мне никогда больше не выпадет честь излагать мои мысли перед таким собранием, как это, — и прельщенному столь благоприятной возможностью лектору впору было бы порыться в своей памяти в поисках какой-либо забытой истины или кардинального утверждения, способных служить в качестве выразительного эпиграфа, новейшей эмблемы или лозунга, а быть может, и цели. Я не помышляю сейчас о блестящих и ставших фамильным достоянием множества школ заповедях типа: учись столько же посредством писания, сколько посредством чтения; не соглашайся с лучшей из книг; сообразуйся с мыслями и наблюдениями других; не имей фаворитов в области мысли; не смешивай людей и вещи; остерегайся авторитета великих имен; удостоверяйся в том, что твои суждения действительно принадлежат тебе; не унывай, когда с тобою не соглашаются; ничего не бери на веру; строже суди идеи, чем действия; не закрывай глаза на силу зла или слабость добра; не удивляйся крушению идола или обнаружению неприглядной тайны; суди талант по его лучшим достижениям, а личность — по ее худшим проявлениям; подозревай скорее властолюбие, чем порок; наконец, изучай не столько эпохи, сколько конкретные проблемы, такие как становление Лютера, научное влияние Бэкона, предшественники Адама Смита, средневековые наставники Руссо, последовательность мысли Берка, личность первого из вигов. По большей части все это, я полагаю, бесспорно, и едва ли есть какая-либо необходимость в расширении списка этих заповедей. Но вот я сейчас поднимаю голос против господствующих представлений, когда призываю вас ни при каких обстоятельствах не допускать девальвации нравственности, снижения понятий о моральных устоях, наоборот, всегда оценивать других исходя из принципа, управляющего вашей собственной жизнью, и не допускать, чтобы человек или дело ускользнули от бессмертного приговора, который история имеет силу произнести над заблуждениями и преступлениями. Призывы к частичному прощению вины и смягчению наказания не прекращаются. На каждом шагу мы встречаем доводы в пользу извинения, приуменьшения и замалчивания дурного, смешения правого и неправого, низведения человека достойного и справедливого на уровень безнравственного и распутного. Замышляли сбить нас с толку, ставили препятствия работе историка прежде всего те, благодаря кому история предстает в ее теперешнем виде. Они установили принцип, согласно которому только глупый консерватор судит современность на основе идей прошлого, и только глупый либерал судит прошлое на основе идей современных.
Эта школа видела свое предназначение в том, чтобы сделать отдаленные времена, в особенности средневековье, в ту пору более отдаленное, чем все прочие, доступными и приемлемыми для общества, вышедшего из восемнадцатого столетия. На этом пути встретились трудности; среди прочих та, что в первом пылу крестовых походов их будущие участники, взявшие крест во имя Господне, приняв благословляющее их на подвиг причастие, остаток дня с жаром посвящали истреблению евреев. Судить их по установившимся нормам, назвать их святотатствующими фанатиками или неистовыми ханжами означало даром уступить победу Вольтеру. Правилом в политике стало хвалить дух и побуждения, когда вы не в состоянии оправдать поступки. Отсюда вытекает, что у нас нет общего кодекса, что наши нравственные понятия постоянно смещаются; и вот вы должны учитывать, во-первых, эпоху, затем, общественный класс, из которого люди вышли, затем влияния окружающей среды, взгляды их школьных наставников и церковных пастырей, движение, которому они бессознательно подчинились и тому подобные вещи, пока, наконец, ответственность за содеянное не потонет в массах, так что в итоге ни один преступник не будет осужден и казнен. Убийца перестает быть преступником, если он не нарушает местного обычая, если соседи не осуждают его, если его навели на мысль об убийстве официальные советчики и подтолкнули к нему законные власти, если он действовал во имя государства или ведомый своей чистой религиозностью, или же выгородил себе убежище благодаря сложности и запутанности закона. Упадок нравственности был вопиющим; но побуждения были таковы, что они позволяют нам с горестным удовлетворением взирать на тайну греховных жизней. Кодекс, претерпевший значительные изменения со временем и в зависимости от места, предоставит нам полную возможность делать исключения, исподволь и втайне подтасовывать тяжести провинностей и меры наказания, иначе говоря, по-разному осуществлять справедливость в отношении наших друзей и наших врагов.
Это связано с философией, которую Катон приписывал богам. Ибо у нас есть теория, оправдывающая Провидение событием, и превыше всего ставящая успех; согласно ей победа никогда не увенчивает дурное дело, давность и продолжительность сообщают всякому делу законные основания; то, что существует на свете, уже в силу своего существования является правильным и разумным; и поскольку Бог проявляет Свою волю через терпимость к тем или иным действиям людей, то мы и должны во всем подчиниться божественному указанию и жить так, чтобы строить наше будущее, исходя из утвержденного небом образа прошлого. Другая теория, насаждаемая не столь деятельно и уверенно, видит в истории нашего наставника и вожатого, равно поставляющего нам примеры заблуждений, которых следует сторониться, и доблести, которым должно следовать. Эта теория с недоверием относится к обольщениям успехом, и хотя не отвергает всякую надежду на безусловное торжество истины, пусть не благодаря ее собственной притягательности, а лишь благодаря постепенному истощению энергии ложного начала, но все же не сулит прямого вознаграждения за моральную правоту. Она считает канонизацию исторического прошлого более опасной, чем незнание и отрицание его, поскольку именно канонизация может увековечить царство греха и порока и утвердить владычество неправды; именно канонизация усматривает проявление подлинного величия в человеке, способном всю без изъятья жизнь посвятить тому, чтобы в одиночестве преграждать пути современным течениям.
Когда Ранке рассказывает без каких-либо прикрас о том, как Вильгельм III отдал приказ [в январе 1692 года] искоренить католический клан [Макдональдсов из Гленко], он с презрением отвергает жалкие оправдания, выдвигавшихся защитниками короля. Но когда он доходит до описания смерти и характеристики этого международного избавителя, Гленко забыт, и обвинение в убийстве не обсуждается, как если бы это была подробность, не стоящая упоминания. Прославленный швейцарец Иоганнес Мюллер [1752–1809, историк] пишет, что британская конституция взбрела на ум какому-то политическому деятелю — возможно, Галифаксу [вероятно, имеется в виду George Savile Halifax, 1633–95, первый маркиз Галифакс]. Это простодушное заявление едва ли будет одобрено суровыми законниками как правдивое и уместное указание на тот путь, которым — начиная от темных оккультных истоков, не знавших оскверняющего вторжения человеческого разума, — складывалось таинственное вековое напластование наших уложений; однако слова Мюллера и не столь вздорны, как могло бы показаться на первый взгляд. В толпе публицистов той поры, от Гаррингтона [James Harrington, 1611–77, политический мыслитель и писатель] до Болингброка [виконт и барон Генри Сент-Джон, 1678–1751, один из вождей партии тори], лорд Галифакс возвышался как автор наиболее оригинальных политических трактатов; и во время борьбы вокруг закона об исключении [ноябрь 1680 года; Галифакс выступил против законопроекта о лишении Джеймса, герцога Йоркского, будущего короля Якова II, права наследовать своему брату Карлу II на том основании, что Джеймс был католиком] он предложил систему ограничений, которая по существу, если не по форме, предвосхищала положение королевской власти времени правления поздних представителей Ганноверской династии. Хотя Галифакс и не верил в Папский заговор, он настаивал на том, что невинные обвиняемые должны быть принесены в жертву в угоду массам. Сэр Уильям Темпл пишет: «Мы не согласились только по одному вопросу: о предании суду некоторых священников — только потому, что они священники, как того желала Палата общин; я же считал это совершенно несправедливым. По этому вопросу между лордом Галифаксом и мною состоялся крайне резкий спор в апартаментах лорда Сандерланда, причем Галифакс сказал мне, что если я не дам своего согласия по этому вопросу, столь важному для удовлетворения народа, то он всем будет говорить, что я папист. Спорили мы и по поводу его утверждения, что обходиться с заговором — по тем его пунктам, в которые люди так широко уверовали, — нужно так, как если бы заговор в самом деле существовал, безотносительно к тому, существует он на деле или нет…» Несмотря на это обвинение Маколей, предпочитавший Галифакса всем политическим деятелям его эпохи, воздает ему хвалу за милосердие: «Его нелюбовь к крайностям, его склонный к прощению и состраданию характер, который, судя по всему, был ему свойственен от природы, уберег его от участия в худших преступлениях его времени…»
Поскольку, не имея достоверных сведений, мы по необходимости часто ошибаемся в наших суждениях о людях, то представляется более уместным решиться подчас проявить чрезмерную строгость, чем излишнее попустительство, ибо если при этом мы и наносим кому-то обиду или оскорбление, то по крайней мере не за счет отказа от принципа. За безразличием, за индифферентными действиями скрываются, по словам Бейля [Pierre Bayle, 1647–1706, французский мыслитель, скептик, склонявшийся к атеизму], скорее дурные, чем хорошие побуждения; причем это неутешительное заключение не оставляет нам надежды и на теологию, ибо Джеймс Мозли [James Bowling Mozley, 1813–1878, богослов и журналист] поддерживает скептика с другого фланга, выступая во всеоружии Оксфордского движения и его трактатов. «Христианин, — говорит он, — уже в силу самой своей веры не может не подозревать зла, не может позволить себе утратить бдительность… Он видит зло там, где другие не видят; чутье верующего освящено и укреплено свыше; зрение его наделено сверхъестественной остротой; он обладает духовной проницательностью и чувствами, воспитанными опытом различения… Он владеет доктриной первородного греха, которая заставляет его остерегаться видимости и прелести, в замешательстве не оставлять опасений, внушает ему способность повсюду распознавать то, что, как ему известно, пребывает везде…» Согласно известному высказыванию мадам де Сталь, мы прощаем то, что до конца понимаем. Парадокс этот был благоразумно урезан ее потомком герцогом де Бройлем [(Achille-Charles-Léonce-) Victor, третий герцог (duc) de Broglie, французский политик, в 1835-36 годах — премьер-министр], сказавшим: «Остерегайтесь излишних объяснений, дабы нам не пришлось излишне многое прощать…» История, говорит Фруд, действительно учит, что правда и неправда разделены явственно различимой чертой. Мнения и убеждения не постоянны, манеры и стили меняются, верования возвышаются и рушатся, но нравственный закон вырезан на скрижалях вечности. И если мы еще можем в некоторых местах противиться этому учению Фруда, то мы по существу утрачиваем эту возможность там, где на его сторону становится Голдвин Смит [Goldwin Smith, 1823–1910, британский и канадский историк и журналист]: «Здравая историческая этика оправдает жестокие меры в жестокие времена, но она никогда не оправдает самовлюбленной заносчивости, предательства, убийства, лжесвидетельства — ибо именно они делают времена жестокими и страшными. — Справедливость является справедливостью, милосердие — милосердием, доблесть — доблестью, вера — верой, правдивость — правдивостью не со вчерашнего дня, а самого начала…» По словам сэра Томаса Брауна [Sir Thomas Browne, 1605–82, английский врач и мыслитель], нравственность неизменна для всех времен; эта же доктрина следующим образом выражена у Берка, умнейшего — когда он верен себе — из наших наставников: «Мои принципы позволяют мне с одинаковым успехом выводить мои суждения о людях и событиях истории и обыденной жизни; эти принципы выведены не из рассмотрения событий и личностей прошлого или настоящего. История — пастырь благоразумия, а не принципов. Принципы истинной политики суть расширенные принципы нравственности, и я ни сейчас, ни когда-либо в будущем не признаю каких бы то ни было иных…»
Каковыми бы ни оказались человеческие представления об этих последних столетиях, таковым, в целом и главном, предстанет и сам человек. Под именем истории эти века несут в себе элементы его философских, религиозных и политических верований. Они задают ему меру, очерчивают его характер; и подобно тому, как похвалы губительны для историков, предпочтения человека нового времени выдают его в большей мере, чем его неприязни. Новая история касается нас столь непосредственно, она в такой мере является для нас вопросом жизни и смерти, что мы не можем не отыскать в ней нашего собственного пути и не посвятить наш дар проникновения в сущность вещей нам же самим. Историки прежних веков, недоступные для нас в их познаниях и талантах, не должны ограничивать нашу мысль. У нас достаточно сил для того, чтобы быть более непредвзятыми и справедливыми, судить строже и беспристрастнее, чем они; а также и для того, чтобы на обнажающих подноготную прошлого подлинных документах научиться смотреть в прошлое с раскаянием, а в будущее — с твердой надеждой на лучшее. И никогда не упускать из виду, что если мы снижаем наш критерий применительно к истории, мы не сумеем удержать на должной высоте и того критерия, с которым подходим к оценке церкви и государства.
Перевод Юрия Колкера, 1991,
Боремвуд, Хартфордшир;
помещено в сеть 15 июня 2009
в книге:
