

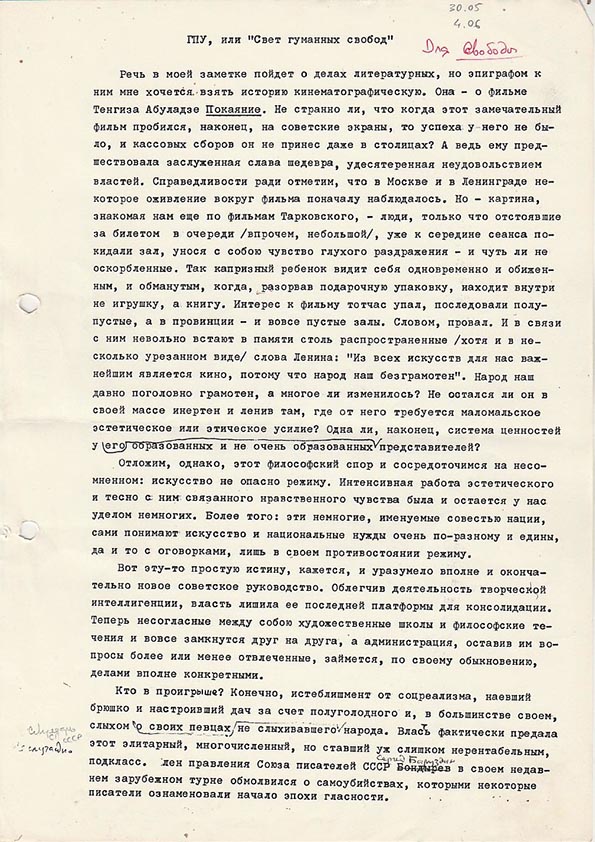
Речь в моей заметке пойдет о делах литературных, но эпиграфом к ним мне хочется, взять историю кинематографическую. Она — о фильме Тенгиза Абуладзе Покаяние. Не странно ли, что когда этот замечательный фильм пробился, наконец, на советские экраны, то успеха у него не было, и кассовых сборов он не принес даже в столицах? А ведь ему предшествовала заслуженная слава шедевра, удесятеренная неудовольствием властей. Справедливости ради отметим, что в Москве и в Ленинграде некоторое оживление вокруг фильма поначалу наблюдалось. Но — картина, знакомая нам еще по фильмам Тарковского, — люди, только что отстоявшие за билетом в очереди (впрочем, небольшой), уже к середине сеанса покидали зал, унося с собою чувство глухого раздражения — и чуть ли не оскорбленные. Так капризный ребенок видит себя одновременно и обиженным, и обманутым, когда, разорвав подарочную упаковку, находит внутри не игрушку, а книгу. Интерес к фильму тотчас упал, последовали полупустые, а в провинции — и вовсе пустые залы. Словом, провал. И в связи с ним невольно встают в памяти столь распространенные (хотя и в несколько урезанном виде) слова Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино, потому что народ наш безграмотен». Народ наш давно поголовно грамотен, а многое ли изменилось? Не остался ли он в своей массе инертен и ленив там, где от него требуется маломальское эстетическое или этическое усилие? Одна ли, наконец, система ценностей у образованных и не очень образованных его представителей?
Отложим, однако, этот философский спор и сосредоточимся на несомненном: искусство не опасно режиму. Интенсивная работа эстетического и тесно с ним связанного нравственного чувства была и остается у нас уделом немногих. Более того: эти немногие, именуемые совестью нации, сами понимают искусство и национальные нужды очень по-разному и едины, да и то с оговорками, лишь в своем противостоянии режиму.
Вот эту-то простую истину, кажется, и уразумело вполне и окончательно новое советское руководство. Облегчив деятельность творческой интеллигенции, власть лишила ее последней платформы для консолидации. Теперь несогласные между собою художественные школы и философские течения и вовсе замкнутся друг на друга, а администрация, оставив им вопросы более или менее отвлеченные, займется, по своему обыкновению, делами вполне конкретными.
Кто в проигрыше? Конечно, истеблишмент от соцреализма, наевший брюшко и настроивший дач за счет полуголодного и, в большинстве своем, слыхом не слыхивавшего о своих певцах народа. Власть фактически предала этот элитарный, многочисленный, но ставший уж слишком нерентабельным, подкласс. Секретарь правления Союза писателей СССР Сергей Баруздин в своем недавнем зарубежном турне не случайно обмолвился о самоубийствах, которыми некоторые писатели ознаменовали начало эпохи гласности.
Кто, кроме власти, в выигрыше? В первую очередь, несомненно, сами искусства и их потребители. Затем, казалось бы, и служители муз, те, кто, по словам Мандельштама, лишился своей чаши на пире отцов, кто десятилетиями жил и старился в обстановке непризнания, а так же идущая им на смену молодежь. И это отчасти верно — но лишь отчасти. Письма моих друзей, ленинградских неподцензурных литераторов, рисуют картину сложную и очень неоднозначную. Это письма представителей двух поколений: тех, кому сейчас около сорока (их мне уже случалось называть поколением последних иллюзий), и тех, кому перевалило за двадцать и чье становление теперь уже навсегда будет связано, для них и для нас, с именем горбачевской оттепели.
Младшие, вполне понятно, обнаруживают гораздо большее воодушевление. Вот длинная цитата из письма, написанного в мае 1987 [Дмитрия Волчека]:
«В литературе у нас происходят вещи совершенно невероятные. У нас — это не совсем точно, потому что речь идет об официозе. Во-первых, 'реабилитировали' многих писателей. За последний год напечатаны вещи Гумилева, Замятина, Платонова, Ходасевича, Набокова, Георгия Иванова, Добычина, 'Реквием' Ахматовой, 'Защита Лужина', готовятся 'Чевенгур' и 'Котлован' Платонова, скоро выйдут полное собрание сочинений Гумилева, 'Мы' Замятина и 'Доктор Живаго'. Выходят и многие вещи собственно советских писателей, созданные не для печати… Можете ли поверить: Горлит упразднен! Кто бы мог подумать, еще пару лет назад, что такое возможно? Все это началось как-то исподволь, но завертелось стремительно. Чем и когда это кончится — трудно сказать. Литераторы пребывают нынче в эйфории. Термин 'вторая культура' уже несколько раз появлялся в официозной прессе, и при этом в весьма положительном контексте. Западные издания почти не доходят — но если б Вы видели, какие очереди за советскими! Еще полгода назад я полагал, что все происходящее — пролог к новому тоталитарному кошмару; сейчас — не знаю, что и думать. Ситуация очень сложная. Не могу пока сказать: рад я 'перестройке' или не рад, выйдет из этого что-то путное или не выйдет — почти все пребывают сейчас в своего рода шоке. Остается еще сильное подозрение, что все это — колоссальный обманный маневр (вспомним Китай) и скоро все будет еще страшнее прежнего…».
Так или иначе, молодежь надеется. Еще отраднее, что она работает. Ленинградец Дмитрий Волчек, в начале 1980-х издававший машинописный журнал Молчание, возобновил свою издательскую деятельность и почти уверен, что его новое детище, Митин журнал, вскоре будет появляться в типографском исполнении.
Старшие настроены менее оптимистично. Ленинградская поэтесса Елена Игнатова пишет в тоне куда более обыденном: «Новостей принципиальных нет, все своим чередом». Дальше она рассказывает о судьбе члена Клуба-81 поэта Олега Охапкина, который тяжело болен: почти не покидает психиатрической лечебницы, уволен по состоянию здоровья из кочегаров, каковым был многие годы, и теперь, на 44-м году жизни, не имеет ни своего угла, ни средств к существованию, ни настоящего признания. Пик интереса к Клубу-81 миновал, но деятельность его продолжается. Практикуются платные вечера членов — с рекламой по местному радио. Так, двое неизменных лидеров клуба, Виктор Кривулин и Аркадий Драгомощенко, выступают с беседами о современной поэзии в так называемых домах культуры.
Публикации не облегчились. По словам Игнатовой, большинство чиновников от литературы осталось на прежних местах, приказ быть смелыми окончательно сбивает их с толку, и — «борьба с бюрократией в литературе пока что оборачивается увеличением бумажек на все случаи жизни, в частности, справок об отсутствии бюрократии». Кривулину, Драгомощенко, Елене Шварц, Виктору Ширали, Охапкину и Игнатовой было в прошлом году предложено представить рукописи своих стихотворных книг в ленинградское отделение издательства Советский писатель. Уже в самый разгар перестройки первые четверо получили из издательства негативный ответ. Охапкин рукописи не представил, о себе же Игнатова сообщает философически: «Я в приятном ожидании».
Здесь необходим короткий комментарий. Главный редактор ленинградского отделения «совписа» — должность номенклатурная, ее может занимать и всегда занимает верный сын партии и недоучка. Иное дело работающие редакторы. В отличие от Лениздата (в Ленинграде всего два литературных издательства), в Советском писателе сидят профессионалы высочайшего класса: Кузьмичев, Кира Успенская, Фрида Кацас. Этим незнаменитым людям современная ленинградская писательская школа обязана очень многим. В качестве рецензента здесь часто выступает один из лучших поэтов современности Александр Кушнер. Все они — не только взыскательные ценители, не просто страстные любители русской поэзии, но еще и люди совести и долга. Случалось, и в менее либеральные времена, рискуя многим, они отстаивали, не позволяли вернуть авторам талантливые рукописи. Например, прекрасная книга Наталии Карповой, попавшая в брежневский штиль, пролежала в издательстве 15 (да-да: пятнадцать!) лет, но все-таки была напечатана. Поэтому отказ, полученный Кривулиным, Драгомощенко, Шварц и Ширали уже после начала послаблений, говорит не только о недостаточной либерализации советского общества (хотя в первую очередь, конечно, о ней), но и о недостатках авторов, годами не покидавших узких рамок самиздата (что , разумеется, их беда, а не вина). Но — по той же самой причине рукописи Игнатовой и Охапкина будут скорее всего приняты и напечатаны в этом издательстве, хотя и не очень скоро. Если не врожденный талант, то реальные достижения этих двух поэтов — выразительнее и нагляднее.
Но и посредственные книги должны выходить, если общество свободно на деле. Вообразим себе на минуту судьбы поэтов поколения последних иллюзий. Пусть все представленные ими рукописи приняты и одобрены. Поскольку известно, что планы «совписа» укомплектованы до 1991 года (а никакой альтернативы для этих авторов пока нет), то получится, что люди, пишущие уж во всяком случае третье десятилетие, увидят свою первую книгу напечатанной на родине — в возрасте 45-47 лет. Заманчивая перспектива!
Понятно теперь, почему старшие воспринимают новые веяния так настороженно и скептически. В другом письме читаем:
«Кажется, мне удалось сформулировать для себя некоторую нашу растерянность и подавленность при начале нынешних перемен. Появилась возможность сказать — а сказать нечего. Это — как с человеком, многие годы просидевшим взаперти, перед которым вдруг распахнули форточку: скажи — только быстро. А на него нашло оцепенение. Что прокричать? что — главное? и — зачем, если боишься, что форточку вот-вот опять захлопнут?».
Это тоже признание члена Клуба-81.
Одно из писем принесло любопытные подробности о сборнике Клуба-81, появившемся в 1985 году под названием Круг. История Круга — старая, еще догорбачевская, но она продолжает обсуждаться, ибо Круг остается единственным коллективным документом упомянутого поколения, напечатанным в СССР. Мне сообщают, что Горлит, не поставив авторов в известность, выбросил из уже подписанной ими корректуры Круга целых два печатных листа, т. е. около 30 тысяч знаков, а с оставленными текстами обошелся в духе лучших советских традиций. Вот пример: стих Аркадия Драгомощенко «Цепь туманных свобод» был напечатан как — страшно выговорить — «Свет гуманных свобод», — факт, выразительно иллюстрирующий скрытую сущность этих самых гуманных свобод при социализме.
Теперь, если верить сообщениям, Горлита нет, и когда люди бывалые, услышав эту новость, спрашивают: а что вместо него? — я предлагаю им на выбор два варианта ответа: «Свет гуманных свобод» — или «Цепь туманных свобод». Согласитесь: оба лозунга, хотя и с разных сторон, годятся для характеристики новой пропагандистской политики нынешнего руководства. Скептики предпочтут второй, т. е. собственно, изначальный: авторский. Властям же можно уверенно рекомендовать первый — недаром он прошел Горлит. В самом деле, свет гуманных свобод прекрасно поэтизирует правительственную триаду — Гласность, Перестройка, Ускорение, — начальные буквы которой так некстати складываются в сознании многих в мрачную аббревиатуру: ГПУ.
30 мая (4 июня) 1987, Иерусалим
помещено в сеть 12 октября 2018
на волнах русской службы радиостанции СВОБОДА (Мюнхен), эфир 16 и 17 июня 1987.