

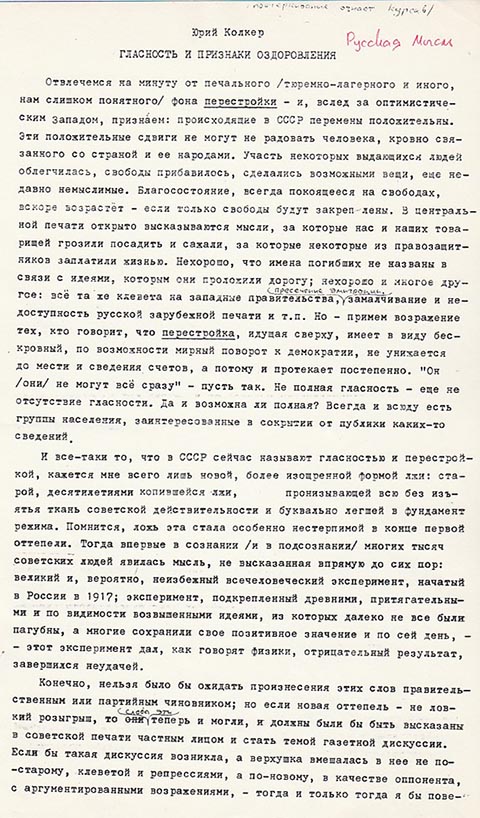
Отвлечемся на минуту от печального (тюремно-лагерного и иного, нам слишком понятного) фона перестройки — и, вслед за оптимистическим Западом, призна́ем: происходящие в СССР перемены положительны. Эти положительные сдвиги не могут не радовать человека, кровно связанного со страной и ее народами. Участь некоторых выдающихся людей облегчилась, свободы прибавилось, сделались возможными вещи, еще недавно немыслимые. Благосостояние, всегда покоящееся на свободах, вскоре возрастет — если только свободы будут закреплены. В центральной печати открыто высказываются мысли, за которые нас и наших товарищей грозили посадить и сажали, за которые некоторые из правозащитников заплатили жизнью. Нехорошо, что имена погибших не названы в связи с идеями, которым они проложили дорогу; нехорошо и многое другое: все та же клевета на западные правительства, пресечение эмиграции, замалчивание и недоступность русской зарубежной печати и т. п. Но — примем возражение тех, кто говорит, что перестройка, идущая сверху, имеет в виду бескровный, по возможности мирный поворот к демократии, не унижается до мести и сведения счетов, а потому и протекает постепенно. «Он (они) не могут все сразу» — пусть так. Не полная гласность — еще не отсутствие гласности. Да и возможна ли полная? Всегда и всюду есть группы населения, заинтересованные в сокрытии от публики каких-то сведений.
И все-таки то, что в СССР сейчас называют гласностью и перестройкой, кажется мне всего лишь новой, более изощренной формой лжи: старой, десятилетиями копившейся лжи, пронизывающей всю без изъятья ткань советской действительности и буквально легшей в фундамент режима. Помнится, ложь эта стала особенно нестерпимой в конце первой оттепели. Тогда впервые в сознании (и в подсознании) многих тысяч советских людей явилась мысль, не высказанная впрямую до сих пор: великий и, вероятно, неизбежный всечеловеческий эксперимент, начатый в России в 1917, эксперимент, подкрепленный древними, притягательными и по видимости возвышенными идеями, из которых далеко не все были пагубны, а многие сохранили свое позитивное значение и по сей день, — этот эксперимент дал, как говорят физики, отрицательный результат, завершился неудачей.
И все-таки то, что в СССР сейчас называют гласностью и перестройкой, кажется мне всего лишь новой, более изощренной формой лжи: старой, десятилетиями копившейся лжи, пронизывающей всю без изъятья ткань советской действительности и буквально легшей в фундамент режима. Помнится, ложь эта стала особенно нестерпимой в конце первой оттепели. Тогда впервые в сознании (и в подсознании) многих тысяч советских людей явилась мысль, не высказанная впрямую до сих пор: великий и, вероятно, неизбежный всечеловеческий эксперимент, начатый в России в 1917; эксперимент, подкрепленный древними, притягательными и по видимости возвышенными идеями, из которых далеко не все были пагубны, а многие сохранили свое позитивное значение и по сей день, — этот эксперимент дал, как говорят физики, отрицательный результат, завершился неудачей.
Конечно, нельзя было бы ожидать произнесения этих слов правительственным или партийным чиновником; но если новая оттепель — не ловкий розыгрыш, то слова эти теперь и могли, и должны были бы быть высказаны в советской печати частным лицом и стать темой газетной дискуссии. Если бы такая дискуссия возникла, а верхушка вмешалась в нее не по-старому, клеветой и репрессиями, а по-новому, в качестве оппонента, с аргументированными возражениями, — тогда и только тогда я поверил бы в начало перерождения режима, в то, что наверху заняты чем-то иным, кроме сохранения и упрочения власти.
Отрицательный результат — это результат, из него можно извлечь уроки. Но прежде всего вещи должны быть названы своими именами. Отложим бесплодный терминологический спор: у нас лишь одна проба, социализма (коммунизма) небольшевистского типа в государственном масштабе история не дала. Признаем же: при этом социализме (коммунизме) человек куда как несчастнее, чем был до него. Эти простые слова должны быть произнесены. Убыло не только свободы, но и братства: неизмеримо возросло братоубийство; убыло и равенства: ни один из монархов никогда не бывал столь недоступен для простых смертных, как Сталин или Брежнев; никогда достоинство денежного знака не зависело от общественного положения его обладателя. (Здесь приходится добавить еще и факт, в который так плохо верят наши западные друзья: даже и в материальном и денежном отношениях — дистанция между беднейшими и богатейшими в СССР едва ли меньше, чем в США, и уж наверное больше, чем во Франции.) О демократии, об экономике и народном благосостоянии — нечего и говорить: проигрыш слишком явен; между тем, говорят там преимущественно о них, да и то робко. Гласности, стало быть, нет, — а дать она могла бы многое. Вспомним, что вышло у немцев из признания тотальной исторической ошибки, увлекшей целую нацию, из признания даже народной, коллективной вины. Нравственное очищение, национальный (не националистический) подъем, процветание. У них тотчас нашлось жизненное пространство. На оставленной им территории они создали не только богатейшую, но и свободнейшую (в том числе, и от расовых предрассудков) страну, сильнейшую в Европе демократию. Теперь, когда и немцы, и, можно надеяться, весь мир вполне сознают, что народной вины быть не может, есть лишь народные трагедии, а вина и ответственность — всегда личная, первоначальное самоуничижение немцев кажется даже излишним, — но как благотворно оно преобразило их родину! Подобный же путь — возвышение через очищающее самоунижение — предстоит и Советскому Союзу, и будущей России. Полумерами не обойтись. Признание и даже преувеличение своих ошибок — косвенное свидетельство силы; их замалчивание, перекладывание вины на других — знак немощи. Потому-то подлинная перестройка и не по плечу горбачевской гласности.
В связи с гласностью возникает еще одна любопытная проблема. Свободу слова с печати должно ведь получить не только все доброе и созидающее, но, одновременно и в той же мере, и всё злое, разрушительное. Это необходимо: общество должно чувствовать свои болевые точки, в нем должен быть представлен весь спектр политических и эстетических мнений, в том числе и самые крайние. Известно, что крайности притягивают людей неглубоких (оттого среди крайних так много молодежи), ищущих решений простых и быстрых, презирающих компромисс и всяческую Жиронду. Терпимость и сдержанность кажутся крайним хитростью и мещанством. В здоровом обществе крайних немного, они служат ему предостережением и способствуют выработке иммунитета. В обществе больном — крайние позиции вдруг становятся устойчивыми, морально (а иногда и материально) выгодными; в одну или несколько из таких позиций и скатывается большинство. Зададимся вопросом: сколько в СССР убежденных коммунистов и, скажем, нацистов — тоже убежденных, искренних? (я далеко не отождествляю эти группы: скорее, мне видится тут дракон, кусающий себя за хвост; но читатель согласится со мной, что и те, и другие должны быть причислены к крайним). Ответа нет, ибо члены КПСС, вообще говоря, совсем не коммунисты и не марксисты, Маркса не читают (а марксизм предполагает образованность), и можно прожить в этой стране сознательную жизнь длиной в четверть века (как это довелось мне), не встретив ни одного убежденного, искреннего и образованного представителя пресловутого светлого будущего. С нацистами еще сложней. В последние годы западная печать сообщала о нескольких выступлениях нацистского толка в различных городах СССР. Власти, будто бы, унимали демонстрантов и преследовали самиздатчиков, — впрочем, сведения тут противоречивы. Отдадим должное советским порядкам: открыто шовинистическую или человеконенавистническую манифестацию пресекут. Но в этом же и беда этого по видимости гуманного законодательства: ненависть копится подспудно, вырывается наружу в формах совсем уже безобразных, а оценить масштабы несчастья невозможно: нет гласности. Недавно опубликованная переписка Н. Эйдельмана с В. Астафьевым (Страна и мир №12 за 1986, стр. 54-62. В этом же роде — и запись речи Д. Д. Васильева, напечатанная в Континенте №50) заставляет, казалось бы, предположить тут худшее: известный писатель и чуть ли не властитель дум современной русской интеллигенции оказался заурядным ксенофобом, черносотенцем, прямым наследником бессмертного (хотя и умершего не своею смертью) автора Майн Кампф. Правда, письма, которые я получаю из России, показывают, что доверие к Астафьеву как к художнику потеряно не сегодня, но ведь владел же на минуту этот человек (а с ним и В. Белов) нашим вниманием, сочувствием и чуть ли не душами! Сколько еще людей в СССР придерживается сходных взглядов? Эйдельман и комментаторы скорбят по поводу низости Астафьева, и я с ними. Однако же при взгляде спокойном и трезвом публикацию письма Астафьева следует отнести к признакам оздоровления, к успеху эпохи гласности. Его мнение должно было быть заявлено и услышано. Дикость и беспорядочность формы этого письма, его стилистическое убожество — свидетельствуют о чувствах, долго не находивших выхода. Беда лишь в том, что и этот успех гласности (как, впрочем, и все другие, о которых стоит говорить) достигнут не в СССР, а лишь благодаря западной зарубежной печати.
В недавно прочитанном в Америке докладе известные публицисты П. Вайль и А. Генис поставили вопрос о выживаемости и целесообразности русской литературы в эмиграции. Вопрос этот поставлен ими не впервые, однако теперь, в эпоху гласности и перестройки, он кажется им особенно актуальным. Предлагаемый авторами ответ, насколько я вижу, отрицателен. Как и всегда у Вайля и Гениса, текст полон острых и тонких, хотя по временам и рискованных, наблюдений и обобщений, однако в целом, по своему тону и выводу, доклад их кажется мне скорее остроумным, чем верным. С советской властью ничего не произошло — и не произойдет, пока тезис о провале глобального эксперимента не будет высказан и обсужден в СССР открыто, хотя бы и с марксистских позиций; пока гласность не в равной мере поощряет разумное, доброе, вечное — и хлопотливую злобу. Разоблачением частностей советская печать, в большей или меньшей степени, занималась всегда. Крайние (правые и левые) по-прежнему встречают затруднения при публикации своих взглядов и часто вынуждены прибегать к эзопову языку. Пока это так, я не вижу оснований ожидать мутации режима. Нет, по-моему, ничего нового и в положении эмигрантов.
Что же касается литературы, то истинный художник (как справедливо, хотя и в несколько иных выражениях, отмечают П. Вайль и А. Генис), действительно, не может довольствоваться негативным. Но ничто и не мешает ему быть позитивистом в эмиграции, — если, конечно, любовь к родине, присущая всякому человеку и одушевляющая наши лучшие порывы, не вырождается у него в языческое поклонение камням и деревьям.
9 марта 1987, Иерусалим
помещено в сеть 13 октября 2018
на волнах русской службы радиостанции СВОБОДА (Мюнхен), март 1987.
газета РУССКАЯ МЫСЛЬ (Париж) №3670, 24 апреля 1987 (с искажениями).