

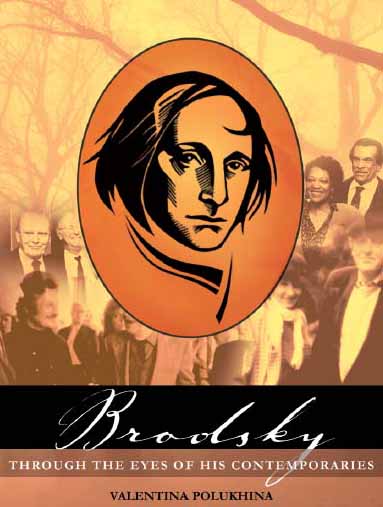
Открыв этот сборник, вы тотчас спрашиваете себя: а не близится ли к своему завершению эпоха книги? Составительницей записаны и представлены в форме книги восемнадцать устных интервью, взятых ею у русских и иноязычных поэтов. Беспорядочность и сумятица, свойственные устной речи, добросовестно воспроизведены Валентиной Полухиной — и предстают живым отрицанием идеи книги, то есть выверенного и хорошо организованного текста. Высказывания проходные и ничего не значащие составляют едва ли не девять десятых текста, прочие — находятся на самой нижней ступени семантической иерархии высказываний. Это обрывки мыслей, иногда интересных, но всегда недосказанных. Каждое интервью снабжено, что называется, «аппаратом» — литературоведческими ссылками, что создает уже просто комическое впечатление. Между тем среди авторов есть люди замечательные, и предприятие, несомненно, удалось бы, предложи им Полухина написать, что они думают о Бродском.
Короткое предисловие Полухиной изобилует ошибками и неточностями. Совершенно произвольно проведено ею разделение опрошенных на поэтов петербургской и не-петербургской школы (какой — не уточняется). К первой она относит и самого Бродского, чья московская генеалогия — прямая связь с Маяковским и футуризмом — давно установлена и всеми признана. Перечисляя «поэтов более молодого поколения», Полухина приводит список, в котором младший — на целых семь лет старше Пушкина, а старший — всего на три года моложе Бродского; читатель согласится, что в таком контексте самое слово younger не совсем уместно. Бродский, по утверждению Полухиной, принадлежит «по крайней мере к трем культурам». Здесь первым делом хочется спросить: уж не поссорятся ли американская и английская культуры в своем споре за Бродского? Но пусть и в самом деле Бродский, живя в Англии, пишет по-английски, а живя в Америке, по-американски (что, разумеется, не так); пусть, далее, ему принадлежит какое-то место в английской культурной жизни, а его известность американского эссеиста не целиком и полностью покоится на его славе русского поэта (что более чем сомнительно), — на какую же четвертую культуру намекает Полухина своим «по крайней мере»? — уж не на еврейскую ли, случаем?!
При всем том Полухина решительно ничем не рискует. Ее гипотетический англоязычный читатель поверит ей не меньше, чем маститым иностранным профессорам от русской литературы, работающим по обе стороны Атлантики, чьи суждения зачастую не более осмотрительны. Иностранного читателя этот сборник может лишь укрепить в господствующем на Западе мнении, что вся русская поэзия подразделяется сегодня на две неравных части: на Бродского — и на все остальное, причем первая часть во всех отношениях значительно превосходит вторую. Так, несомненно, думает и сама Полухина. Это и превращает весь проделанный ею труд в кривое зеркало — под стать помещенному на суперобложке портрету Бродского работы Шемякина.
Посмотрим теперь, какие вопросы задает составительница.
— «Почему Иосиф делает категорию языка доминирующей категорией своей не только поэзии, но и поэтики?»
— «На чем стоит универсализм Бродского?»
— «Скажите, когда вы лично начали усматривать в Бродском черты гениальности?»
— «Что порождает предельную напряженность поэтической дикции Бродского?»
— «Нет ли парадокса в том, что Бродский, поэт элитарный и сознающий свое громадное значение, призывает себя и читателя к скромности и смирению?»
— «В какой мере стихи Бродского способны повлиять на советского читателя и произвести в нем изменения к лучшему?»
— «Как далеко Бродский ушел от нас, читателей, и от вас, поэтов его поколения?»
— «Какую бы мы тему Бродского ни взяли — все он уже додумал до конца; чем он еще может нас удивить?»
— «Теперь мы все сознаем величие Бродского, но знали ли вы в молодости, с кем имеете дело?»
Вопросы эти замечательны тем, что либо содержат в себе ответ, либо не нуждаются в ответе. Иные просто лишены смысла (как первый), другие рассчитаны на то, что собеседник непременно будет подыгрывать Полухиной: усмотрит в Бродском «черты гениальности», «предельную напряженность», «скромность», согласится, что «Бродский далеко ушел от него» (чего ни один поэт, пишущий всерьез, никогда по отношению к другому не признает); иные анекдотичны: составительница верит, что в этом мире что-то можно «додумать до конца».
Еще один полухинский вопрос для полноты картины возьмем со страниц газеты Русская мысль (он был задан на другой день после присуждения Бродскому нобелевской премии): «Достойны ли мы быть современниками Бродского?»
Если нас не дурачат и не разыгрывают, то перед нами пример полного безмыслия. Но нет, Полухина серьезна. Она — ученый, и вопросы эти задает от имени науки.
Здесь, заметим, поразительно не только безмерное преувеличение роли Бродского, но и столь же фантасмагорическое преувеличение роли поэзии в нашей жизни. Как это ни прискорбно для всех любящих поэзию и живущих в ее волшебном контексте, но современная русская поэзия давно ушла из списка наук и искусств, поставляющих нам высочайшие духовные ценности. Не без вины поэтов — хотя и не только по их вине — она стала периферийной областью приложения человеческого гения. Музыка и математика значат для нас больше, а ведь никто, кажется, не спрашивал: достойны ли мы быть современниками Шостаковича или Колмогорова.
Естественно, что на бессмысленные вопросы составительница (к счастью для нее) получила ответы, к вопросам почти не относящиеся. Вот некоторые из этих ответов.
«Иосиф был невысокого мнения о людях, которые его окружали. И меня изумляло в те годы, что людям было приятно его презрение. Им ведь нужен товарищ Сталин в самых разных областях… В стихах Бродского имеется какая-то советская поучительность… Бродский — рекордсмен профессионализма. Он очень рано сформировался; я думаю, что к 1965 году он написал все…»
«Бродский фетишизирует язык, он словно бы ошеломлен лингвистикой. Быть может, к этому привело отсутствие формального лингвистического образования. Бродский только значительно сильнее, чем все остальные, выразил общее мнение поколения. Он никогда не отказывается от риторики, он — сугубо риторический поэт.»
«Выходец из по-военному иерархической страны, Бродский принял эту иерархическую структуру оценок. Он постоянно судит, определяет: выше — ниже, дальше — ближе… Это прежде всего поэт жеста… Бродский с охотой и симпатией будет говорить о тех поэтах, которые не кажутся ему сильными соперниками… Бродский полностью подпадает под то определение, которое Эйхенбаум дает Толстому: он литературный политик, литературный полководец. Бродский стратег; именно стратегия предписывает ему хвалить полуграмотные стихи Ирины Ратушинской, масштаб дарования которой Бродский прекрасно сознает…»
«Н. Я. Мандельштам как-то спросила меня, кого я выделяю в современной поэзии. Услыхав в ответ имя Бродского, она сказала: "Ну что Вы, Юрий Михайлович, это же янки в русской поэзии…" И это было тогда, когда об эмиграции Бродского в Америку никто не мог и помыслить… Бродскому подчас не хватает религиозной культуры, такта и вкуса, наконец, душевного тепла. Ему кажется, что все позволено, что вдохновение все покроет… Гордыни в лирическом герое Бродского больше, чем в каком-либо ином лирическом герое русской поэзии, а там, где гордыня, — там демонизм. Ему необходимо publicity, для него это наркотик.»
«Противно, что имеется человек, раздающий чины и награды. Люди, вроде Парщикова и компании, воспитаны в советском духе, им нужен начальник. Вот Бродский и состоит у них начальником. Кривулин всегда говорит, что Бродский похож на танк.»
«Акмеисты писали с голоса, под диктовку свыше, а у Бродского — мозг, чернила. Это литературная работа, а не пифический восторг. Бродский эклектичен. Он как будто не чувствует, что некоторым словам неуютно по соседству. Центральной фигурой Бродского делают воля и труд.»
Это — замечания, показавшиеся мне справедливыми. На некоторые другие мне хочется возразить. Найман говорит: «Можно писать через запятую: Ахматова, Пастернак, Цветаева, Маяковский, — а с Бродским никого через запятую не напишешь». Увы, это аберрация, навязанная временем. Найман не может не знать, что предложенный им синтаксис установился не при жизни названных поэтов. Кто в 1929 году написал бы через запятую Маяковского с безвестной Цветаевой? — и многие ли всерьез принимают Маяковского в наши дни? Бродский, во всяком случае, этих двоих через запятую не напишет. Да и вообще: давно ли почти никто не писался через запятую, скажем, с Николаем Тихоновым?
Лев Лосев поучает: «Ты обязан давать публике лишь то, что принадлежит тебе и только тебе». Боюсь, что эта максима заставила бы умолкнуть всех настоящих поэтов. «Только тебе» — не принадлежит, собственно, вообще ничего: даже то, что ты носишь с собою. Обольщения на этот счет понятны у начинающих авторов — и странны в устах маститого литературоведа. Сколь ни индивидуалистична поэзия на первый взгляд, на деле она — труд коллективный, более того, только в этом качестве она и сохраняет смысл. Гете говорил, что вполне оригинального поэта он попросту не станет читать.
Что касается иноязычных участников сборника, то они сказали о Бродском мало правды, но одно замечание Томаса Венцловы кажется мне точным. «Бродский, — говорит Венцлова, — окружен аурой избранности, которой нет у многих из тех, кто пишет лучше». Прав и Дерек Уолкотт, отмечающий властность Бродского. Вместе с уже приведенными здесь высказываниями русских поэтов эти слова могут создать у непредвзятого наблюдателя следующую картину: Бродский — эмблема и символ 1960-х годов, ярчайший представитель одного литературного поколения (которое, впрочем, многие и сегодня считают лучшим советским послевоенным поколением). Он — гений, но при этом его гениальность покоится в области, смежной с литературой. Это Юлий Цезарь с его Записками о галльской войне: он явился, чтобы повелевать в настоящем, и Записки нужны ему в той мере, в какой они служат его основному предназначению. Но аура избранности — дело сегодняшнее, для потомков невнятное, и мы, вероятно, очень удивились бы, если бы узнали, с кем Бродский будет писаться через запятую через сто и даже через пятьдесят лет.
1993, Боремвуд, Хартфордшир;
помещено в сеть 22 марта 2010
журнал НЕВА (Петербург) №12, декабрь 1993.
газета ГОРИЗОНТ (Денвер) №89, 30 января 1999.