

Это письмо пишет в 1983 году не сумасшедший, нет... точнее, не совсем сумасшедший: его пишет графоман, верящий в силу внятного, ясно артикулированного слова; безумец, помешанный на сочинительстве, да ещё в рифму. Адресат письма — ни на крохотную секунду не обидчица или, упаси бог, дурной человек; нет, моя сестра — человек достойный, правда, в ту пору вполне, до мозга костей, советский, измученный (чего она не сознаёт) советской действительностью и затяжной предсмертной болезнью обожаемой матери. По отношению к матери сестра ведёт себя как преданная, любящая дочь, каковою она всегда и была: перевозит её, уже не встающую с постели, к себе, в крохотную двухкомнатную квартиру, где и без того тесно (живут ещё её сын и муж), безропотно и самоотверженно ухаживает за умирающей.

Но в своих вкусах и представлениях сестра очень не похожа на меня. Всё драматическое напряжение этого моего сочинения 1983 года — и весь его курьёз — в том, что адресат — прямая противоположность сочинителю по самому главному для сочинителя пункту: внятное, ясно артикулированное (да ещё и написанное) слово не значит для сестры ровным счётом ничего, система ценностей у неё другая, эпистолярного жанра она не понимает, — и, конечно, при чтении этого письма я должен был казаться ей полным, законченным сумасшедшим, идиотом, позёром. Не думаю даже, что она дочитала письмо до конца.
О чём я пишу сестре в 1983 году? О себе, о жене Тане и дочери Лизе девяти лет, о тяготах нашей жизни; о неправильности отношений между мною и сестрой, мною и матерью; о необходимости изменить что-то в этих отношениях.
Сестра родилась на целых четырнадцать лет раньше меня, в другую эпоху, мы никогда не дружили, не знали сердечной привязанности друг к другу, не понимали друг друга. Мать отвернулась от меня после моей женитьбы, сочла её мезальянсом. Ещё больше она охладела ко мне, когда из учёных я перешёл в кочегары и стал добиваться выездной визы для себя и своих. Обе, и мать, и сестра, не сразу разглядели ум и нравственные достоинства Тани; обе не понимали, как тяжело ей живётся после операции на позвоночнике, перенесенной в 1979 году и оставившей её инвалидом; не помнили они и лизиного неблагополучия, а у неё был хронический нейродермит и осложнения в школе, где проведали, что мы «предатели родины» и уже годы «сидим в отказе».
Присутствует в этом письме и «жилищный вопрос», уродливый советский фантом, небывалый в истории человечества, — вопрос, превращавший людей в зверей. Я в ту пору не в шутку, а всерьёз пытался быть праведником, всем сердцем рвался помогать и служить людям, ни перед кем не допускал неисполненных нравственных обязательств, — так подействовала на меня женитьба, которую я переживал как событие космическое. Незачем говорить, что с самого начала и во всём я уступал по этому проклятому вопросу матери и сестре. Я собирался эмигрировать — и ни на что не претендовал. Ещё студентом в квартиру родителей был прописан мой племянник — то есть эта квартира отходила к нему, не ко мне, хотя мы с Таней и Лиза годами жили в одной комнате в чудовищной советской коммуналке и без надежды из неё когда-либо выбраться. Так и должно быть, рассудили мы с Таней; им — оставаться. (Что в свой черёд и мой племянник эмигрирует, а за ним и моя сестра, этого тогда и вообразить никто не мог, меньше всего они сами.)

В момент написания моего письма к сестре квартира матери (отца нет в живых уже семь лет) пустует многие месяцы, а мне нужно заканчивать работу над двухтомником Ходасевича, который я готовил для ленинградского самиздата и парижского издательства La Presse libre. В письме я решаюсь просить сестру позволить мне иногда на несколько часов приезжать в эту квартиру для занятий, немыслимых в моей коммуналке. Ответа сестры не помню. Скорее всего, его не было вовсе (и, уж конечно, не было письменного ответа). Сестра, к тому же, во всём всегда ссылалась на мать, исходила из воли матери. Заниматься в квартире матери мне не довелось; двухтомник Ходасевича я как начал, так и закончил в ленинградских кочегарках.

Незадолго до этого письма к сестре мы (Таня, Лиза и я) получили от советских ублюдков четвёртый отказ на прошение о выездной визе; пошёл четвёртый год нашей «жизни в отказе». Подавать прошения разрешалось раз в полгода, но процедура и формальности (тягостные, гадостные, унизительные и невероятно глупые) были таковы, что полугода обычно не хватало. В феврале 1983 года мы, понятно, не знали, что нас отпустят — практически вышлют — через год с небольшим. Мы готовились к долгой, затяжной борьбе; мы не исключали, что большевики арестуют меня и отправят в лагеря, а Таня и Лиза останутся вовсе беззащитными во враждебном окружении и кошмарной бедности. Мы видели, что другие отказники сидят на чемоданах поколениями, но свои жилищные условия при случае улучшают. И вот, в этом моём письме к сестре в феврале 1983 года я — впервые — решаюсь осторожно спросить её, не согласятся ли она и мать… — нет-нет, об этом и речи нет! не отдать нам эту злосчастную квартиру, не пустить нас в неё временно жить (ведь нас, чего доброго, оттуда потом не выгнать будет!), а только попытаться разменять её и нашу комнату в коммуналке на две однокомнатных квартиры: одну племяннику, другую мне, Тане и Лизе, — затея, правду сказать, довольно-таки безнадёжная (квартира и комната были уж очень незавидны), даже если б сестра и мать на такое согласились.
Но они не согласились. И моё письмо 1983 года — не об этом. Оно, по жанру, скорее жалоба и молитва, чем попытка конкретного делового разговора. Я пишу к сестре, письмо было мною отправлено и ею получено, но в первую очередь я пишу к себе завтрашнему, ко мне сегодняшнему, и это письмо, вот удача, тоже получено, а мои сегодняшние слова — ответ на него. Ещё точнее: это моё письмо 1983 года — исповедь. Я тогда чувствовал себя человеком религиозным, хоть и не принадлежал ни к церкви, ни к синагоге. Сегодня я атеист — и знаю, что Бог моего письма не получал.

Мать умерла 26 апреля 1983 года, в мучениях, не дожив до семидесяти. В остальном у этой сказки — счастливое продолжение. Мы уехали из Совдепии 17 июня 1984 года. К 1989 году мои отношения с сестрой возобновились — и стали нормальными семейными отношениями. Она гостила у нас в Англии в октябре 1991 года и навсегда переехала в Германию 14 сентября 1997 года. Мой племянник, тринадцатью годами моложе меня, эмигрировал в Германию 19 июля 1992 года. Сегодня он — в числе самых близких мне людей.
Ю. К.
19 июля 2015,
Боремвуд, Хартфордшир
19.02.1983
Дорогая Ира,
я прямо-таки вынужден прибегнуть к этому странному и столь несовременному способу объяснения с тобой, к письму, поскольку вижу, что в наших разговорах владею собой недостаточно и мысли свои выражаю путано и неполно. Дипломатического такта я лишен, моя прямота, замешанная на самоуничижении и связанная с потребностью положить голову в пасть собеседнику — предполагает диалог, отклик, которых я с твоей стороны не встречаю (что истолковываю в самом выгодном для тебя смысле — но мне от этого не легче). Недоговоренности мучают меня. Как ни тяжело теперь тебе и (уж прошу поверить) мне, но именно сейчас самое время объясниться, снять давнюю неопределенность в наших отношениях; ты сама дала мне к этому не только повод (о нём речь дальше), но и надежду на счастливый исход: вспомнив о том, что я прихожусь тебе братом. Предстоящее объяснение связано с мучительными воспоминаниями. Прошу тебя отнестись к этому тексту с полным вниманием и серьезностью: я отвечаю за каждое слово в нем до конца, перед той последней для человека инстанцией, которая, я уверен, у нас с тобою одна.
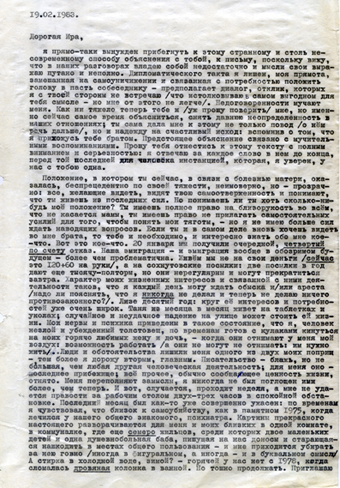
Положение, в котором ты сейчас, в связи с болезнью матери, оказалась, беспрецедентно по своей тяжести, неимоверно, но — прозрачно: все, желающие видеть, видят твою самоотверженность и понимают, что ты живешь из последних сил. Но понимаешь ли ты хоть сколько-нибудь моё положение? Ты имеешь полное право на близорукость во всём, что не касается мамы, ты имеешь право не прилагать самостоятельных усилий для того, чтобы понять мои тяготы, — но я не имею больше сил ждать наводящих вопросов. Если ты и в самом деле вновь хочешь видеть во мне брата, то тебе и необходимо, и интересно знать обо мне кое-что. Вот это кое-что. 20 января мы получили очередной, четвертый по счету отказ. Наша эмиграция — и эмиграция вообще в обозримом будущем — более чем проблематична. Живём мы не на свои деньги (сейчас это 120+60 на руки), а на сохнутовские посылки: две посылки в год дают еще тысячу-полторы, но они нерегулярны и могут прекратиться завтра. Характер моих жизненных интересов и связанной с ними деятельности таков, что я каждый день могу ждать обыска и/или ареста (надо ли пояснять, что я никогда не делал и теперь не делаю ничего противозаконного?). Лизе десятый год: круг её интересов и потребностей уже очень широк. Таня из месяца в месяц живет на таблетках и уколах; случайное и неудачное падение на улице может стоить ей жизни. Мои нервы и психика приведены в такое состояние, что я, человек незлой и убежденный толстовец, по временам готов с кулаками кинуться на моих горячо любимых жену и дочь, — когда они отнимают у меня мой воздух: возможность работать (а они не могут не отнимать: им нужно жить). Люди и обстоятельства лишили меня одного из двух моих поприщ [занятий наукой, уравнениями, — Ю. К.] — тем более я дорожу вторым, главным. Писательство — блажь, но не бо́льшая, чем любая другая человеческая деятельность; для меня оно — последнее прибежище; всё прочее, обычно сообщающее ценность жизни, отнято. Меня переполняют замыслы, я никогда не был поглощен ими более, чем теперь. И вот, случается, проходит неделя, а мне не удается провести за рабочим столом двух-трех часов в спокойной обстановке. Последкий месяц был как-то уже совершенно ужасен: по временам я чувствовал, что близок к самоубийству, как в памятном 1975, когда лечился у нашего общего знакомого, психиатра [Романа Петровича Болдырева из Бехтеревки, — Ю. К.]. Картины прекрасного настоящего разворачиваются для меня и моих близких в одной комнате, в коммуналке, где еще семеро жильцов, среди которых двое маленьких детей и одна душевнобольная баба, пишущая на нас доносы и старающаяся нашкодить в местах общего пользования — и мне приходится убирать за нею говно (иногда в фигуральном, а иногда — и в буквальном смысле). А стирка в холодной воде, зимой? — горячей у нас нет с 1978, когда сломалась дровяная колонка в ванной. Но тошно продолжать. Приглашаю тебя экстраполировать картины прекрасного настоящего — в светлое будущее. Нам с Таней под сорок. Долго ли мы так протянем? — так, т. е. если не произойдет катастрофы. На что нам надеяться?
Тут ты начинаешь догадываться, о чём это письмо: нет, Ирочка, оно не о квартире. Но эта, сейчас пустующая, квартира — одновременно и подходящий повод, и прекрасный пробный камень для того, чтобы выяснить — закрепить и назвать своим именем — сложившиеся в нашей семье отношения. Не я, а вы (ты — вскоре после получения нами отказа [то есть после 20 января 1983 года, — Ю. К.], мама — 14.02.83, во вторник [когда я сидел при ней, — Ю. К.]) вызвали меня на разговоры о квартире. После второго я не могу опомниться до сих пор… Но вспомним сначала первый из них. — Ты спросила меня, не с задней ли мыслью я рассказал тебе о моей поездке в Ольгино, где кочегарам дают квартиры [я ездил туда наниматься вместе с другим кочегаром от литературы, Валерой Кобаком, которому, впрочем, жильё не требовалось; ничего у нас не вышло, — Ю. К.]. Я сказал, что не вижу за собой моральных прав на квартиру мамы [в Ленинграде, не к столу будь помянут, на улице Хлопина; кажется, дом 7 корпус 1, а номера квартиры не нахожу, — Ю. К.]. Ты не возразила мне. Ты сказала, что пыталась уговорить маму разрешить нам временно пожить там, но она не пожелала об этом и слышать. — В этом диалоге от тебя ускользнула одна важная деталь, а от меня — другая. Обсудим первую из них. У меня нет моральных прав на квартиру мамы, на контролируемые ею материальные средства, а также на её ласку и доброе ко мне отношение — в одном единственном случае: если она мне не мать. Так я это и понимал до недавнего времени, до кризиса её болезни: в течение тех десяти лет, что я женат, она не оставила в этом ни малейших сомнений ни у меня, ни у кого-либо из любопытствующих, доказала это всеми своими словами и поступками, особенно противоестественными после смерти отца. Мне же, по большому счёту, не в чем себя упрекнуть. Быть может, я не был идеальным сыном (особенно — в сравнении с тобою; но вся ли тут вина — на мне?), но я не был и подлецом. Материнское сердце находит в себе нежность и оправдание даже для отпетого негодяя, уголовника, убийцы, — и всегда встречает то же в сыне. Решишься ли ты сказать мне, что я неотзывчив, что добрые чувства и благородные порывы не находят во мне отклика? Быть может, я зол, хитер, корыстолюбив? Чем я заслужил то холодное равнодушие, на которое наталкивались все мои попытки к сближению? Я — чужой: в этом вся суть ее отношения ко мне в те годы, когда она была еще относительно здорова. Этому — десятки свидетельств, но возьмем самое вопиющее: она находила нормальным то, что она одна живет в двухкомнатной квартире, а мы втроем — в одной комнате, в коммуналке. На разговоры об обмене было наложено табу — сразу после смерти отца, под страхом материнского проклятия. А почему, собственно? Две однокомнатные квартиры, одну — рядом с тобой и Андреем [племянником, — Ю. К.] или вообще где бы ей захотелось, — получить на двухкомнатную и комнату было хоть и непросто, но реально. Мы, не проронив ни слова, ждали от неё этого предложения, а когда вместо него последовал строгий запрет на самую тему, приняли его безропотно — и не нарушили ни разу, поражаясь не столько ее взгляду на квартирный вопрос, сколько равнодушию к сыну и внучке. А сколько еще обид — нестерпимых, бессмысленных — было нанесено ею Лизе, Тане, мне! Тане — особенно: вот уж кому досталось! Какие только низменные побуждения ей не приписывались? (Последняя выходка в этом роде случилась в минувший вторник, 15.02.83, — она и переполнила чашу, став толчком к этому письму.) Не пора ли понять, что Таня и я — одно, что обижая Таню, мама (и ты, Ирочка) обижаете меня десятикратно? Не пора ли, наконец, разглядеть её душевные и человеческие качества без предвзятости, как они есть, и признать, что они более чем неординарны? Я это говорю на двадцать третьем году знакомства с нею, после десяти лет супружества, проведенных под одной крышей в самой тесной близости (скорее, увы, буквальной, пространственной, чем традиционно-иносказательной [я всего лишь хотел напомнить, что Таня беспрерывно болеет, — Ю. К.]). Из обид, нанесенных — и по сей день наносимых — мне, упомяну дишь самую курьёзную: непостижимое мнение, что я нахожусь под чьим-то пагубным влиянием, что я несамостоятелен в своих суждениях и поступках. Право, не хочется даже и возражать: так это дико и унизительно. Себя и покойного отца мать рассматривала как одно целое — почему она отказывает в этом нам с Таней? В нашем случае это гораздо более несомненно, у нас нет ничего, что не было бы общим [неосмотрительные слова в супружестве? «счастливый брак держится на взаимном обмане»? но тут речь об интересах; мать не могла делить инженерных интересов отца, мы же с Таней были увлечены русской поэзией, — Ю. К.]… Когда мать заболела тяжело — в 1981, в больнице Ленина, а затем минувшей осенью — и вы с нею вспомнили обо мне [то есть позвали помогать, — Ю. К.], я обрадовался этому: мне показалось, что мы трое, связанные самым близким родством, перед лицом общей беды смажем опять стать семьей, забыв и пересмотрев старое. Вопроса о квартире не было и в помине. Вообще: когда я с тобой о ней говорил? когда я первым начал разговор на эту фатальную тему? Теперь, не возразив на мой полувопрос и тем самым отказав мне в каких бы то ни было моральных правах на квартиру матери, ты поставила меня на место, в мое прежнее положение изгоя: мне разрешено лишь выполнять заповедь о почитании родителей (которая для меня не пустой звук), но я по-прежнему — не сын. А ведь моральные права — это еще даже не реальные претензии.
Теперь о тебе. Ты просила маму нас временно пустить в ее [пустовавшую; мама, уже не встававшая с постели, жила у сестры, — Ю. К.] квартиру, а она — отказала. По болезни и слабости (или по другим причинам) она не поняла, что́ значит для нас такое, хотя бы и временное, облегчение, — не следовало ли тебе настаивать уже хотя бы потому, что этот наш временный переезд был бы облегчением одновременно и для тебя, и для мамы? Моя помощь хоть немного, но все же облегчает вам жизнь; но одно дело — езда через весь город, на трех транспортах, зимой, — чтобы провести три-четыре часа у маминой постели, другое — пятнадцать минут ходьбы. В первом случае я теряю практически весь день, а вернувшись лезу на стену от сознания того, что дела стоят, а работать уже нет сил; я издерган, измучен, я — плохая сиделка. Во втором… ну, да что там! Ирочка, неужели правда, что всё это — лишь твой логический недочёт, а не сознательное опасение, что мы с Таней можем организовать планомерное наступление на ваши позиции с целью отобрать у Андрея [племянника, — Ю. К.] его с таким трудом добытую квартиру? Зачем декларировать возобновление наших с тобою семейных уз (а ведь таковое было с твоей стороны), если в их основу кладутся подозрение, недоговоренности, неискренность? Быть может, тут к месту, хоть это и горько для меня, вспомнить и наши с тобою прошлые отношения. Мать не была мне матерью эти десять лет: а ты? была ты мне сестрой? В любой размолвке всегда виноваты обе стороны; можешь ли ты по совести сказать, что хотя бы бо́льшая доля вины за наше отчуждение — лежит на мне? К счастью или к несчастью, события первого, страшного, периода Таниной болезни у меня подробно записаны. Помнишь ли твой визит к ней в больницу в 1979 [когда Тане сделали операцию на позвоночнике, — Ю. К.]? и то, как ты повела себя после этого по отношению ко всем нам, не исключая и Лизы [как именно Ира повела себя, я не помню, — Ю. К.]? Мама тогда прямо-таки превзошла самоё себя [после своей чудовищной операции Таня, на правах выжившей и, это важно, защищая меня от каких-то обидных слов мамы, сестрою упомянутых, в первый и единственный раз позволила себе осторожно подвести Иру к мысли, что моя мать ведёт себя по отношению к сыну и внучке слишком эгоистично; слово «эгоистично» вызвало молчаливое негодование Иры и бурю со стороны матери, — Ю. К.]; но ты — от тебя я такого никак не ожидал. Ведь опять, весь смысл твоего тогдашнего поведения сводился к одному: мы — чужие. Допустим, там, в [таниной, — Ю. К.] больнице, после [таниной, — Ю. К.] операции, Таня сказала тебе нечто возмутительное — не следовало ли хотя бы обсудить со мной это, если я тебе брат? Но у тебя всегда, на всё, что тебе не по душе, один ответ — молчание. Мне этот стиль непонятен, возможно — по моей простоте. И пусть. Зато никто не подумает, что у меня камень за пазухой. Обиду таят против недруга, а не против близкого человека. Тогда, в больнице, Таня сказала тебе, что наша мать — эгоистична, сказала без злобы и негодования, а в порядке обсуждения, притом защищая не себя, а меня. Она была абсолютно права и по существу обсуждавшегося вопроса, и безотносительно к нему. Ты не возразила ей: ты ответила многолетней враждебностью ко всем нам. Между тем у матери, как у любого из нас, есть достоинства и недостатки, среди последних — крайний, гипертрофированный эгоизм. Отрицать это нельзя. Я унаследовал изрядную долю этого порока, развитого, к тому же, дурным воспитанием; но у меня он сдерживается цивилизующим действием рассудка и культуры, я сознаю его как порок и борюсь с ним по мере сил, и сейчас, оценивая не мои природные качества, а мое поведение, мало кто решится утверждать, что я — эгоист. Доброте, отзывчивости, бескорыстию и умению прощать обиды я научился поздно, и учила меня этому не мать, а Таня. В смысле только что перечисленных качеств она даст сто очков вперед любому из нас: это тоже можно отрицать, лишь сознательно закрыв глаза на факты.
20.02.83
…Мне и странно, и грустно говорить тебе о достоинствах Тани, с которой за десять лет ты не нашла нужным достаточно познакомиться. Но всё же еще два слова. Дежурить к маме в больницу Ленина она ездила еще будучи очень больна, с сильными болями в спине, а возвращаясь, ложилась и подолгу не могла встать. Вызвалась дежурить она добровольно, без моей просьбы. При этом она ведь и помнила, и сознавала, как повела себя мама во время ее [таниной, — Ю. К.] болезни… Но довольно упреков. В нормальном состоянии я ничего этого не помню… Говорить друг другу резкости — вообще привилегия родственников, и я заранее готов признать, что среди твоих, встречных, будут справедливые [никаких «встречных» не было; Ира отмолчалась, — Ю. К.]. Только уж выскажи их прямо, как это делаю я.
21.02.83
А теперь — обо мне. Сказав тебе, что я не имел задней мысли в этом нашем разговоре о квартире, я солгал: в глубине души я надеялся услышать от тебя (а при благоприятная повороте беседы — и подсказать тебе) предложение — не временно перебраться на Хлопина с женой и дочерью, упаси Бог! — а лишь на несколько часов в день использовать эту пустующую квартиру для занятий. Именно невозможность работать превращает мою жизнь в пытку. При этом и мои поездки к маме упростились бы [сидеть с мамой я ездил к сестре на улицу Бутлерова, куда с улицы Хлопина пятнадцать минут ходьбы, — Ю. К.]. И только увидев, что даже это предложение, которое сейчас мне вовсе не кажется неприличным или дерзким, а напротив — безобидным и совершенно естественным, даже оно не приходит тебе в голову, — я струсил, и от своей задней мысли отрекся. Твоя нечуткость, решил я, есть следствие того, что ты ни о чём, кроме страданий мамы, думать не можешь, а я пристаю к тебе со всякой ерундой. Мне стало стыдно. В разговоре своя боль всегда отступает на второй план. Но сейчас, когда я спрашиваю свою совесть, взвесив всё семейное прошлое, настоящее и гипотетическое будущее, мне не стыдно не только за тот несостоявшийся вопрос и мою невольную ложь из страха показаться подлецом, — мне не стыдно даже, не дожидаясь более состязания в благородстве, просто, по-человечески и по-родственному, предложить тебе сделать нечто реальное для облегчения нашей жизни. И мне не стыдно, что мои чувства к маме исчерпываются состраданием и сознанием долга. Иметь в моем лице ласкового, преданного, заботливого сына было так просто! для этого не требовалось ни материальных жертв, ни даже ощутимых душевных затрат — простая справедливость и такт. Теперь же добро и зло, мною от мамы виденные, аннигилировались, и в нормальном состоянии мне не удается вызвать в душе ничего. О ее добрых делах напоминает мне Таня, о злых — обстоятельства (подобные вставшему вдруг так остро квартирному вопросу) и она сама.
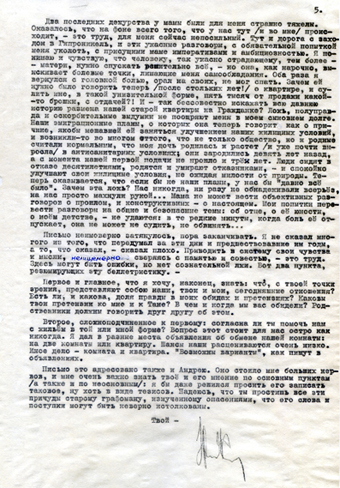
Вот обширный, но всё равно далеко не полный комментарий к нашему короткому диалогу, бывшему в 20-х числах января. Он, этот диалог, не значил бы для меня столько, если бы не два последующих разговора с мамой: 14 и 15 февраля, и мне не пришлось бы, бросив дела, писать тебе эту ноту. Я думаю, что самое важное для нас с тобой (если он хоть чему-нибудь научил нас) — исключить из наших отношений боязнь слова, подозрительность, недоговоренность. Я знаю, что жизнь дала тебе более чем достаточно поводов к мизантропии, что, оглядываясь на нее, ты тоже [то есть после меня, — Ю. К.] с полным правом можешь сказать, что она не удалась. Я никогда не касался этой темы из деликатности, боясь задеть за живое, и — как младший. Но надо же нам, в конце концов, научиться говорить друг с другом без страха быть неправильно понятыми! Мы оба миновали экватор. Кто знает, сколько нам еще отпущено? Не время ли уж хоть теперь, не боясь попасть впросак, предполагать и выявлять друг в друге лучшее? К сожалению, мама никогда не понимала ни этих моих побуждений, ни даже языка. Но я не верю, что у тебя, как у нее, имеется природная потребность в интриге, в хитрости, что ты можешь делать и говорить одно, а думать — другое.
Два последних дежурства у мамы были для меня страшно тяжелы. Оказалось, что на фоне всего того, что у нас тут (и во мне) происходит, — это труд, для меня сейчас непосильный. Тут и дорога с заходом в Гипроникель [к Ире на работу; вероятно, за ключами от квартиры на улице Бутлерова; Ира работала в Гипроникеле на Гражданке, на полпути от улицы Хлопина до улицы Бутлерова, — Ю. К.], и эти ужасные разговоры [мамины, — Ю. К.], с обязательной попыткой меня уколоть, с присущими маме императивами и амбициозностью. Я понимаю и чувствую, что человеку, так ужасно страдающему, тем более — матери, нужно спускать решительно всё, — но она, как нарочно, выискивает болевые точки, лишающие меня самообладания. Оба раза я вернулся с головной болью, орал на своих, не мог спать. Зачем ей нужно было говорить теперь (после стольких лет!) о квартире, и сулить мне, в такой унизительной форме, пять тысяч от продажи какой-то брошки, с отдачей?! И — так бессовестно искажать всю давнюю историю размена нашей старой квартиры на Гражданке? Ложь, полуправда и оскорбительные выдумки не поощряют меня в моем сыновнем долге. Наши эмиграционные планы, о которых она теперь говорит как о причине, якобы мешавшей ей заняться улучшением наших жилищных условий, и возникли-то во многом оттого, что не только общество, но и родные считали нормальным, что моя дочь родилась и растет (и уже почти выросла) в антисанитарных условиях; они зародились девять лет назад, а с момента нашей первой подачи [ходатайства на выезд, — Ю. К.] не прошло и трех лет [«жизнь в отказе» началась с моим уходом в кочегары в январе 1980 года, а ходатайство на эмиграцию долго не принимали, приняли только во второй половине 1980 года, — Ю. К.]. Люди сидят в отказе десятилетиями, родятся и умирают отказниками, — и спокойно улучшают свои жилищные условия, не ожидая милости от природы. Теперь оказывается, что если бы не наши [эмиграционные, — Ю. К.] планы, у нас бы «давно всё было». Зачем эта ложь? Нас никогда, ни разу не обнадеживали всерьёз, на нас просто махнули рукой… Мама не может вести объективных разговоров о прошлом, и конструктивных — о настоящем. Мои попытки перевести разговоры на общие и безопасные темы: об отце, о её юности, о моём детстве, — не удаются: в те редкие минуты, когда боль её отпускает, она не может не судить, не обвинять…
Письмо неимоверно затянулось, пора заканчивать. Я не сказал многого из того, что передумал за эти дни и предшествовавшие им годы, а то, что сказал, — сказал плохо. Приводить в систему свои чувства к мысли, нелицемерно, сверяясь с памятью и совестью, — это труд. Здесь могут быть ошибки, но нет сознательной лжи. Вот два пункта, резюмирующих эту беллетристику. —
Первое и главное, что я хочу, наконец, знать: что́, с твоей точки зрения, представляют собою наши, твои и мои, сегодняшние отношения? Есть ли, и какова, доля правды в моих обидах и претензиях? Каковы твои претензии ко мне и к Тане? В чем и когда мы вас обидели? Родственники должны говорить друг другу об этом.
Второе, сложноподчиненное к первому: согласна ли ты помочь нам с жильем в той или иной форме? Вопрос этот стоит для нас остро как никогда. Я дал в разные места объявления об обмене нашей комнаты: на две комнаты или квартиру. Шансы наши расцениваются очень низко. Иное дело — комната и квартира [то есть не согласится ли Ира попытаться разменять мамину квартиру и нашу комнату на две однокомнатные квартиры, — Ю. К.]. «Возможны варианты», как пишут в объявлениях.
Письмо это адресовано также и Андрею [племяннику, — Ю. К.]. Оно стоило мне больших нервов, и мне очень важно знать твоё и его мнение по основным пунктам (а также и по неосновным): я бы даже решился просить его записать таковое, ну хоть в виде тезисов. Надеюсь, что ты простишь все эти причуды старому графоману, измученному опасениями, что его слова и поступки могут быть неверно истолкованы.
Твой [подпись]
[19-21 февраля 1983, Ленинград]
помещено в сеть 19 июля 2015