

[Помещаю, по-американски и в переводе, газетную статью (1986) Саймона Карлинского (1924-2009), ксерокопию оригинала которой Зинаида Шаховская (1906–2001) прислала мне в письме от 4 июля 1997 (переписка Юрия Колкера и Зинаиды Шаховской), когда собиралась передать мне права на английский перевод и издание ее книги В поисках Набокова. Как видно из приведённых дат, эту статью (помеченную ее экслибрисом) Шаховская хранила в своём архиве по крайней мере одиннадцать лет. В моём архиве статья пролежала ещё семнадцать лет. В 1997 году я только заглянул в неё, но вникать в литературоведческую грызню не стал. По внимательном прочтении вижу: то, что Карлинский говорит в этой статье о Шаховской, ложь и вздор, но это бы ещё полбеды, не все ведь слепы, да и не о Шаховской тут речь, — отвратительна угодническая, сервильная поза Карлинского, всерьёз уверяющего нас, что нельзя писать о Набокове, если мы не восхищаемся им; нельзя даже и мнения спрашивать, и сведения собирать у тех, кто Набокова не любит. Эти узколобые соображения Карлинский обращает к Андрю Филду, биографу Набокова. Оба литературоведа — откровенные прилипалы, потому что писали о живом, вещь для исследователя недопустимая, ибо исключает объективность. Оба ошибаются, и здесь совсем нет беды; все ошибаются. Но ошибка ошибке рознь. Филд хотя бы видимость порядочности соблюдает, хочет понять Набокова, показать его с разных сторон, — Карлинский в ответ затаптывает его в грязь с позиций прямо советских, пишет этакий сталинский донос, самодовольно упивается просчётами Филда (для этого бедняги русский не родной), абсолютно невнятными для англоязычного читателя… О третьем прилипале, о рантье Дмитрии Набокове, и вовсе говорить не хочется… — Теперь спросим: что вся их правота или неправота для рядового читалеля американской газеты в 1986 году? Не смешно ли? Этот читатель и о Набокове-то слышал разве что краем уха: что-то русское, скандальное. И ещё спросим: чего стоит вся эта злоба дня (и просто злоба) спустя годы и десятилетия? Опять смешно. Бароны от набоковедения, каждый из трёх, отстояли, вероятно, свои тучные феоды, ушли на заслуженный отдых, а там и далее. О Набокове помнят только русские читатели старших поколений; в англоязычном мире хороших (и скандальных) писателей вообще много. Набоков гремел только в США, гремел не слишком долго и уже давно. В Британии и в континентальной Европе не гремел. Что имеем в остатке? Русскую книгу Шаховской о Набокове, написанную — посмотрим правде в глаза — не блистательно, потому что русский язык для писательницы второй, а её литературный дар скромен, но книгу безусловно правдивую, честную во всём, от начала до конца. Тем, кто живёт не одними газетами, эта книга может показаться интересной, ибо она — свидетельство, продиктованное совестью, да плюс к тому проба атмосферы, в которой жила и выжила первая русская эмиграция… Но опять: всё это интересно только старшим из русских читателей, только им, тем, кто помнит, да еще историкам культуры, вообще же газетной статье место в газете, во вчерашней газете… — Ю. К., 7 апреля 2015] (перевод)

Nabokov's Life and Lolita's Birth
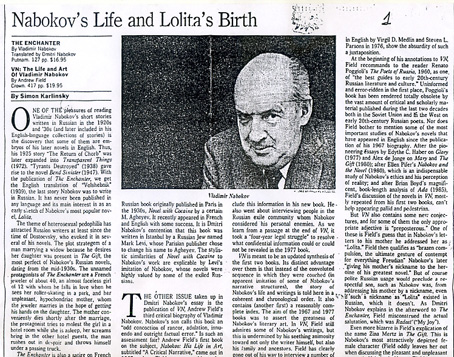
THE ENCHANTER
By Vladimir Nabokov
Translated by Dmitri Nabokov
Putnam. 127 pp. $16.95
VN: The Life and Art
Of Vladimir Nabokov
By Andrew Field
Crown. 417 pp. $19.95
By Simon Karlinsky
One of the pleasures of reading Vladimir Nabokov's short stories written in Russian in the 1920s and '30s (and later included in his English-language collections of stories) is the discovery that some of them are embryos of his later novels in English. Thus, his 1925 story "The Return of Chorb" was later expanded into Transparent Things (1972). "Tyrants Destroyed" (1938) gave rise to the novel Bend Sinister (1947). With the publication of The Enchanter, we get the English translation of "Volshebnik" (1939), the last story Nabokov was to write in Russian. It has never been published in any language and its main interest is as an early sketch of Nabokov's most popular novel, Lolita.
The theme of heterosexual pedophilia has attracted Russian writers at least since the time of Dostoevsky, who evoked it in several of his novels. The plot strategem [так в газете; американизм или ошибка?] of a man marrying a widow because he desires her daughter was present in The Gift, the most perfect of Nabokov's Russian novels, dating from the mid-1930s. The unnamed protagonists of The Enchanter are a French jeweler of about 40, an almost faceless girl of 12 with whom he falls in love when he sees her roller-skating in a park, and her unpleasant, hypochondriac mother, whom the jeweler marries in the hope of getting his hands on the daughter. The mother conveniently dies shortly after the marriage, the protagonist tries to molest the girl in a hotel room while she is asleep, her screams bring in the other hotel guests, the man rushes out in despair and throws himself under a passing truck.
The Enchanter is also a satire on French bourgeois mores ("bourgeois" in the Flaubertian sense rather than the Marxist one, as Nabokov would have insisted), just as Lolita is a sendup of the foibles of the American bourgeoisie. But any comparison of The Enchanter with Lolita is bound to be invidious. Humbert Humbert, Charlotte Haze and Lolita herself were delineated in vivid, unforgettable detail. Their earlier French counterparts were barely traced and not particularly interesting to begin with. The enjoyment of reading The Enchanter is comparable to the one afforded by studying Beethoven's published sketchbooks: seeing the murky and unpromising material out of which the writer and the composer were later able to fashion an incandescent masterpiece.
The brief text of the story is followed by a substantial essay by Nabokov's son and translator, Dmitri Nabokov. The essay outlines the origin of the story and its relationship to Lolita and also addresses itself to the two currently controversial issues in Nabokov studies. One is the unconvincing efforts of Nikita Struve, a Russian scholar resident in Paris, to attribute to Nabokov a Russian book originally published in Paris in the 1930s, Novel with Cocaine by a certain M. Agheyev. It recently appeared in French and English with some success. It is Dmitri Nabokov's contention that this book was written in Istanbul by a Russian Jew named Mark Levi, whose Parisian publisher chose to change his name to Agheyev. The stylistic similarities of Novel with Cocaine to Nabokov's work are explicable by Levi's imitation of Nabokov, whose novels were highly valued by some of the exiled Russians.
The other issue taken up in Dmitri Nabokov's essay is the publication of VN, Andrew Field's third critical biography of Vladimir Nabokov. Nabokov's son calls this book an "odd concoction of rancor, adulation, innuendo and outright factual error." Is such an assessment fair? Andrew Field's first book on the subject, Nabokov: His Life in Art, subtitled "A Critical Narrative," came out in 1967, when Field was something of a Nabokov protégé. At that time, much of Nabokov’s earlier work — novels, stories, poetry — was not yet translated into English. Field informed the readers of the English-speaking countries (many of whom still thought that Lolita was Nabokov's first novel) of Nabokov's output in the 1920s, '30s and '40s and asserted its importance for appreciating the writer's art. Despite a deliberately difficult scrambled structure, Field's 1967 book performed the useful task of acquainting Nabokov's admirers with the whole of his work and biography. It was written with the full cooperation of Vladimir and Vera Nabokov, who gave Field access to their archive and recollections and who helped him correct, I was told, over a hundred major errors of fact and translation when his book was already in the page-proof stage.
Between the publication of Field's first book on Nabokov and his second one, Nabokov: His Life in Part, 1977, the relationship between the writer and the biographer soured. During a visit to Montreux in 1973, I found Nabokov sad and angry about what he saw as Field's breach of confidence. To give Field a deeper perspective during his work on the first biography, Nabokov told him of some personal and family matters that were meant to be off the record and not for publication. To Nabokov's chagrin, Field intended to include this information in his new book. He also went about interviewing people in the Russian exile community whom Nabokov considered his personal enemies. As we learn from a passage at the end of VN, it took a "four-year legal struggle" to resolve what confidential information could or could not be revealed in the 1977 book.
VN is meant to be an updated synthesis of the first two books. Its distinct advantage over them is that instead of the convoluted sequence in which they were couched (in apparent imitation of some of Nabokov's narrative structures), the story of Nabokov's life and writings is told here in a coherent and chronological order. It also contains (another first) a reasonably complete index. The aim of the 1967 and 1977 books was to assert the greatness of Nabokov's literary art. In VN, Field still admires some of Nabokov's writings, but this is undermined by his seething animosity toward not only the writer himself, but also his family and ancestors. Field has clearly gone out of his way to interview a number of Nabokov's surviving Russian contemporaries who for one reason or another resented Nabokov's international success and his often aloof stance. As one of his prime sources for V,. Field cites Princess Zinaida Schakowskoi's scurrilous 1979 memoir In Search of Nabokov, published in Paris in Russian. Field calls it "excellent" and "essential." In fact, its treatment of Nabokov and its ad feminam attack on his wife Vera often border on character assassination.
I have always found Andrew Field something of a puzzle. After decades of writing on Russian literature and culture, at times brilliantly, he can still come up with statements about them that are so naive or so misinformed as to leave one gasping in disbelief. On p. 2 of the introduction to VN, Field asserts a similarity between Vladimir Nabokov and Czar Nicholas II ("a weak and foolish man") because they both "came from cosmopolitan St. Petersburg, which played with politics and culture and took a Fabergé-service picnic to the edge of a volcano." But of course the snobbish, superstition-bound court of Nicholas and Alexandra was neither cosmopolitan, nor aware of the innovative cultural flowering that marked their reign, while Nabokov's resolutely anti-monarchist family was close to the center of that flowering. The memoirs of Nabokov's father, published in English by Virgil D. Medlin and Steven L. Parsons in 1976, show the absurdity of such a juxtaposition.
At the beginning of his annotations to VN, Field recommands [sic] to the reader Renato Poggioli's The Poets of Russia, 1960, as one, of "the best guides to early 20th-century Russian literature and culture." Uninformed and error-ridden in the first place, Poggioli's book has been rendered totally obsolete by the vast amount of critical and scholarly material published during the last two decades both in the Soviet Union and in the West on early 20th century Russian poets. Nor does Field bother to mention some of the most important studies of Nabokov's novels that have appeared in English since the publication of his 1967 biography. After the pioneering essays by Edythe C. Haber on Glory (1977) and Alex de Jonge on Mary and The Gift (1980); after Ellen Pifer's Nabokov and the Novel (1980), which is an indispensable study of Nabokov's ethics and his perception of reality; and after Brian Boyd's magnificent, book-length analysis of Ada (1985), Field's discussion of the novels in VN, mostly repeated from his first two books, can't help appearing pallid and pedestrian.
But VN also contains some new conjectures, and for some of them the only appropriate adjective is "preposterous." One of these is Field's guess that in Nabokov's letters to his mother he addressed her as "Lolita." Field then qualifies as "brazen compulsion, the ultimate gesture of contempt for everything Freudian" Nabokov's later "giving his mother's nickname to the heroine of his greatest novel." But of course polite Russian usage would preclude a respectful son, such as Nabokov was, from addressing his mother by a nickname, even if 'such a nickname as "Lolita" existed in Russian, which it doesn't. As Dmitri Nabokov explains in the afterword to The Enchanter, Field misconstrued the actual salutation, which was Radost' (My Joy").
Even more bizarre is Field's explication of the name Zina Mertz in The Gift. This is Nabokov's most attractively depicted female character (Field oddly leaves her out when discussing the pleasant and unpleasant women in Nabokov). Also, as Field is aware, Zina is the closest Nabokov came to producing a literary portrait of Vera Nabokov, nee Slonim. "Zina," Field insists, "isn't a Christian Orthodox name." How could he have failed to notice that Russian life and literature are full of women named Zinaida, whose friends and family usually call them Zina? Mertz, Field admits, "is a perfectly plausible russified German Jewish name." But no, he prefers to derive it from an art movement among the German Dadaists in the '20s (the painter Kurt Schwitters, pace Field, coined the word Merz from the German word for "commerce"). From this, through some leap in logic, it follows that the name Zina is an "easy anagram for Nazi." First, this anagram would never work in Russian, the language in which The Gift was written (the name would have to be "Tsina"); and second, why would Nabokov want to name the irresistibly appealing young half-Jewish woman, who was in part a portrait of the wife he loved, with an anagram for Nazi?
In such passages of VN, both scholarship and common sense take a nosedive. Whatever value other portions of Field's book might offer, one thing is clear. A writer of Vladimir Nabokov's stature deserves a biographer who is more at home in Russian culture and has more respect and sympathy for the man and his achievement than Field now does.
Simon Karlinsky, professor of Slavic languages and literatures at the University of California at Berkeley, is the editor of "The Wilson-Nabokov Letters" and author of "Marina Tsvetaeva: The Woman, Her World and Her Poetry."

Саймон Карлинский
ЖИЗНЬ НАБОКОВА И РОЖДЕНИЕ ЛОЛИТЫ
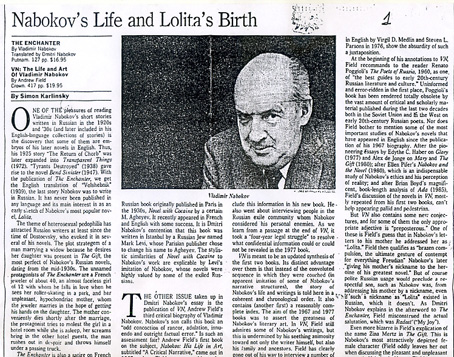
Владимир Набоков
ВОЛШЕБНИК
Перевод Дмитрия Набокова
Putnam. 127 c. $16.95
Андрю Филд
VN*: Жизнь и творчество
Владимира Набокова
Crown. 417 c. $19.95
*[Variance Notice, юр. уведомление о пересмотре; здесь другой смысл VN — инициалы В.Н. (Владимир Набоков или Вера Набокова)]
Одно из наслаждений, доставляемых чтением рассказов Владимира Набокова, написанных по-русски в 1920-е и 1930-е годы (а позже включенных в его английские сборники), состоит в том, что вы открываете в зародыше его последующие английские романы. Так, его рассказ 1925 года Возвращение Чорба был впоследствии развернут по-английски в Прозрачные вещи (1972). Истребление тиранов (1938) превращается в Под знаком незаконнорожденных (1947). Теперь, с появлением The Enchanter, мы получили перевод рассказа Волшебник (1939), последней вещи, написанной Набоковым по-русски. Эта повесть прежде не публиковалась ни на одном языке, и ее главный интерес состоит в том, что она — ранний набросок самого известного романа Набокова, Лолиты.
Тема гетеросексуальной педофилии привлекала русских писателей по крайней мере со времён Достоевского, у которого она появляется в нескольких романах. В романе Набокова Дар, лучшем из его романов середины 1930-х, находим тот же сюжетный ход: герой женится на вдове в надежде обольстить ее дочь. В Волшебнике безымянному герою около сорока, он французский ювелир, а героине, тоже безымянной и почти безликой, двенадцать лет; он влюбляется в нее, когда видит, как она катается на роликах на специальной отведённой для этого площадке, и женится на ее непривлекательной, страдающей ипохондрией матери с намерением овладеть дочерью. Мать очень кстати умирает вскоре после замужества, герой пытается приставать к девочке, спящей в гостиничной постели, ее крики привлекают других постояльцев, герой убегает и, в приступе отчаяния, бросается под проезжающий грузовик.
Волшебник, кроме того, еще и сатира на французскую буржуазию (взятую скорее в смысле Флобера, чем в смысле Маркса, как мог бы подчеркнуть Набоков), совершенно так же, как Лолита — издёвка над вывертами буржуазии американской. Но любое сравнение The Enchanter [английского Волшебника] с Лолитой вызывает отталкивание. Гумберт Гумберт, Шарлота Хейз и сама Лолита наделены живыми, незабываемыми чертами. Их французские предшественники едва прочерчены, а что ещё важнее — не слишком интересны. Чтение The Enchanter [английского Волшебника] можно уподобить чтению, или, лучше сказать, разбору появившихся в печати черновиков Бетховена: перед вами тусклый, ничего не сулящий материал, на основе которого позже писатель и композитор оказались в состоянии создать шедевр.
Небольшая повесть снабжена основательным послесловием, написанным сыном и переводчиком Набокова, Дмитрием Набоковым. В очерке говорится об истоках повести и ее связи с Лолитой, а также разбираются два вопроса, всё ещё вызывающие споры у исследователей Набокова. Один из вопросов — неубедительная попытка парижского русиста Никиты Струве приписать Набокову русскую книгу, появившуюся в Париже в 1930-е годы: Роман с кокаином некоего М. Агеева. Книга эта, недавно переизданная по-французски и по-английски, имела некоторый успех. Дмитрий Набоков утверждает, что эта книга написана в Стамбуле русским евреем по имени Марк Леви, парижский издатель которого предпочёл напечатать ее оригинал под псевдонимом Агеев. Похожесть Романа с кокаином на сочинения Набокова объясняется тем, что Леви подражал манере Набокова, романы которого высоко ценили некоторые из русских эмигрантов.
Второй из поднятых Дмитрием Набоковым вопросов касается недавней книги Андрю Филда, его третьей, критической биографии Набокова под названием VN [подразумевается юридический термин variance notice, уведомление о пересмотре; второй смысл этого сокращения у Филда — инициалы В. Н., которые можно прочесть и как Владимир Набоков, и как Вера Набокова]. Сын Набокова называет эту книгу «злобной стряпнёй, низкопоклонством, инсинуацией и сплошной фактической ошибкой». Справедлива ли такая оценка? Первая книга Филда на эту тему, Набоков: его жизнь и творчество, с подзаголовком Критическое изложение, появилась в 1967 году, когда Филд был чем-то вроде протеже Набокова. В то время значительная часть ранних произведений Набокова — романы, повести и рассказы, стихи — не была ещё переведена на английский. В ней Филд рассказывает читателям Набокова в англоязычных странах (многие из которых тогда ещё полагали, что Лолита — первый роман Набокова) о творчестве Набокова в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы, столь важном для настоящего понимания достижений Набокова. Несмотря на путаницу в ее построении, намеренно затрудняющую чтение, книга Филда 1967 года была полезным ознакомлением почитателей Набокова с жизнью и творчеством писателя, взятыми как целое. Книга была написана в тесном сотрудничестве с Владимиром и Верой Набоковыми, открывшими Филду доступ к их архиву и воспоминаниям и, как мне было сказано, помогшим Филду, притом уже на стадии чтения верстки, исправить более ста грубых ошибок, касавшихся фактов и переводов.
В промежуток между первой книгой Филда о Набокове и его второй книгой — Набоков: Этап его жизни, 1977, — отношения между писателем и биографом испортились. Во время моего приезда в Монтрö в 1973 году Набоков был оскорблён и раздосадован тем, что Филд злоупотребил его доверием. Ещё во время работы Филда над первой биографией, Набоков, чтобы помочь Филду глубже понять некоторые вещи, сообщил ему некоторые конфиденциальные личные и семейные сведения, обнародованию не подлежавшие [очевидный вздор; не выживший из ума писатель никогда не сообщит биографу сведений, которые хочет скрыть]. Оказалось, к огорчению Набокова, что Филд намеревался включить эти сведения в свою новую книгу. Филд, кроме того, позволил себе опрашивать тех из русских эмигрантов первой волны, кого Набоков считал своими личными врагами. Как мы узнаём из одного замечания в конце VN, Филду потребовалось «четыре года правовой борьбы» для выяснения, какие из конфиденциальных сведений могут, а какие не могут быть разглашены в его книге 1977 года.
Третья книга Филда, VN, была задумана как уточняющее дополнение и синтез первых двух. Её несомненным преимуществом является то, что вместо изощрённой путаницы изложения в этих первых двух книгах (явно имитирующей повествовательные структуры самого Набокова) она связно и в хронологическом порядке рассказывает о жизни и творчестве Набокова. Кроме того, она (в отличие от предыдущих) содержит удовлетворительный по своей полноте указатель. Целью книг 1967 и 1977 года было показать мощь Набокова-писателя. В VN Филд тоже восхищается некоторыми из творений Набокова, но это восхищение подстилает враждебность не только к самому писателю, но и к его семье и предкам. Филд совершает явную ошибку, собирая сведения о Набокове среди тех его современников (уже очень немолодых), кому по тем или иным причинам неприятен международный успех Набокова и некоторая замкнутость, отчуждённость писателя. В качестве одного из своих основных источников Филд цитирует оскорбительную и лживую книгу 1979 года В поисках Набокова княжны Зинаиды Шаховской [прямая ложь (книга Шазховской корректна) и, кроме того, намеренная подтасовка; Карлинский прекрасно знает, что Шаховская со дня своего замужества не княжна; но он пишет для американцев, которые гордятся своим пренебрежением к родовитому дворянству, — Ю. К.], опубликованную в Париже по-русски. Своей трактовкой Набокова и своими нападками ad feminam [к женщине, против женщины (а не по существу)] на его жену Веру эта книга граничит с диффамацией [здесь Карлинский лжёт и клевещет, — Ю. К.].
Андрю Филд всегда казался мне в некотором роде загадкой. Он десятилетиями пишет о русской литературе и культуре, и по временам блистательно, а вместе с тем иногда способен выдать нечто столь наивное и нелепое, что дыхание перехватывает. На странице 2 своего введения к VN Филд усматривает общность между Владимиром Набоковым и царем Николаем II (его он определяет как «человека глупого и слабого»), потому что оба они — «из космополитического С.-Петербурга, который играл в политику и культуру и устраивал пикник в бриллиантах Фаберже над самым жерлом вулкана». Но ведь невозможно не видеть, что снобистский, приверженный к предрассудкам двор Николая и Александры не был космополитическим и понятия не имел о том передовом и новаторском расцвете культуры, которым было отмечено их царствование, тогда как семья Набокова, решительно настроенная против монархии, была близка к самому центру этого культурного расцвета. Воспоминания отца Набокова, напечатанные по-английски издательством Virgil D. Medlin and Steven L. Parsons в 1976 году, показывают нелепость такого сопоставления.
В начале своей аннотации к VN Филд рекомендует читателю книгу Ренато Поджолли Поэты России (1960) как «одно из лучших руководств по литературе и культуре начала XX в России». Но, во-первых, книга Поджолли полна ошибок и неосведомлённости, а во-вторых, лавина критического и академического материала о русских поэтах начала XX века, опубликованного в течение последних двух десятилетий как в Советском Союзе, так и на Западе, делает ее безнадежно устаревшей. Не удосуживается Филд упомянуть и некоторые из наиболее серьёзных исследований прозы Набокова, опубликованные после выхода его биографии Набокова 1967 года. После новаторских работ Эдит К. Хабер о Подвиге (1977), после публикаций Алекса де Жонжа о Машеньке и Даре; после книги Эллен Пайфер Набоков и роман (1980), этого бесценного исследования этики Набокова и его восприятия действительности; наконец, после великолепного, объёмом с книгу, очерка Брайана Бойда об Аде (1985), — рассуждения Филда о романах Набокова в VN, по большей части повторяющие его первые две книги, не могут не казаться бледными и бескрылыми.
Но в VN, сверх того, имеются еще и новые догадки, иные из которых поневоле приходится назвать нелепицами. Вот одна из них: Филд допускает, что в письмах к своей матери Набоков называет ее Лолитой [у матери Набокова, по утверждению Филда в его возражении Карлинскому, было уменьшительно-ласкательное имя Лёля, что уже почти Лола] и поясняет: «дав героине своего лучшего романа уменьшительно-ласкательное имя матери», Набоков «обнаруживает свою неодолимую манию, выражает окончательное презрение ко всякого рода фрейдизму». Но, конечно, вежливость в русском языке не позволяла почтительному сыну, каким Набоков был, обращаться к матери с использованием ее уменьшительно-ласкательного имени, даже если бы по-русски в качестве такового существовало имя Лолита, на деле же и этого нет. Дмитрий Набоков объясняет в своём послесловии к The Enchanter [английскому Волшебнику], что в качестве приветствия использовались русские слова моя радость, которые Филд не сумел правильно истолковать.
Еще более причудливо объясняет Филд в романе Дар имя Зины Мерц, самой привлекательной из выведенных Набоковым героинь (разбирая героинь в романах Набокова, как милых, так и отталкивающих, Филд странным образом вовсе ее не упоминает). Кроме того, Филд знает, что Зина ближе всех прочих героинь Набокова портретирует Веру Набокову, урождённую Слоним. «Зина», говорит нам Филд, «имя не православное». Непонятно, как мог он не заметить, что в русской литературе и в русской жизни полно женщин с именем Зинаида, и каждую Зинаиду друзья и близкие зовут Зиной. Фамилию Мерц, признаёт Филд, «можно с очень высокой вероятностью понимать как русифицированное еврейское имя немецкого происхождения». Но нет, он тут же предпочитает вывести его из одного течения германских дадаистов 1920-х годов (художник Курт Швиттерс, с позволения Филда, производит имя своего течения, мерц, из немецкого слова Kommerz, коммерция). Отсюда, посредством загадочного логического перескока, следует, что «Зина — анаграмма слова Nazi». Но, во-первых, тут нет русской анаграммы, а ведь Дар написан по-русски (чтобы получить анаграмму по-русски, требуется имя Цина); а во-вторых, зачем бы это вдруг Набоков стал зашифровывать название нацистской партии в имени этой неотразимо-обаятельной полу-еврейки, прототипом которой отчасти является любимая им жена?
В подобных пассажах книги Филда хромают как и эрудиция, так и здравый смысл. Каковы бы ни были достоинства других частей VN, одно несомненно: выдающийся писатель Владимир Набоков заслуживает биографа, лучше ориентирующегося в русской культуре, относящегося с большим уважением к его творчеству и с большей симпатией к нему как человеку, чем Филд в этой своей книге.
[возражения Филда и Шаховской Карлинскому]