


|
— В ранней юности, — мальчик услышал в ответ, — Я пытался раскинуть мозгами, Но поняв, что мозгов в голове моей нет, Я спокойно стою вверх ногами. |
Врут злопыхатели — и спасибо товарищу Сталину. Я рос в раю. У меня было счастливое детство. Никого, никого не было счастливее меня — ни в нашем переулке, мощеном грязновато-розовыми гранитными булыжниками, под сенью его громадных тополей, на его панелях, то есть тротуарах, действительно уложенных панелями, порядочного размера плитами песчаника по две в ряд (и куда только они подевались, когда я вырос?); ни в нашем дворе с его громадной яблоней-китайкой и лабиринтом дровяных сараев, по одному на семью; ни в нашей комнате с лепным потолком, дубовым паркетом и двумя кариатидами в эркере, голыми терракотовыми бабами, тупо глазевшими на наш обеденный стол; ни в коммунальной кухне с примусами; ни — на всём белом свете. Для счастья, кроме материнской ласки, нужен отец земной и отец небесный, а у меня-счастливца была не только ласковая мать, но и целых два земных отца, потому что Сталин приходился отцом всем и каждому, детям же — в первую очередь.
Конечно, с отцом небесным, с Лениным, была та трудность, что он умер. Если всю правду сказать, здесь угадывалась беда, маячило вселенское несоответствие. Внук сенешаля Оверни, родившийся в начале XVII века в Клермон-Ферране, или сын линкольнширского фермера из деревни Woolsthorpe (кириллицей это слово не написать, вздор получается), девятнадцатью годами моложе француза, — те были не только тысячекратно умнее, но и тысячекратно счастливее меня, потому что родились и выросли под сенью церковной благодати, не просто в общине людей избранных и самых передовых (это и про меня можно было сказать; шутка ли родиться в стране Великого Октября!), но и под густой, медовый благовест. Их отец небесный был настоящим Отцом, бессмертным и смерть поправшим. Что такое вера в человека против веры в Бога? Можно добавить к этим двум детям и маленького португальского голландца, слушавшего Кол-нидрей в амстердамской синагоге; годами он как раз между французом и англичанином придется (счастливый семнадцатый век!), гениальностью почти равен им; иные скажут, что и не уступает… Какое счастье родиться и расти в русле мощной, обволакивающей и несущей традиции, восходящей к самому Творцу! Как добры вокруг тебя люди, преисполненные важной, неотменяемой, общей для всех истины! Как благодарно душа твоя раз в неделю открывается вечности! Ничего отвлекающего; удивительно ли, что в итоге ум твой обращён к высокому, а не к низкому, и мысль становится лазерным лучом?
Пробуждение мысли и есть изгнание из рая. Пока мы в русле традиции, под сенью общины — мы еще не мыслим, только чувствуем. Сколько вокруг тепла! Как мимолетны, при всей их младенческой горечи, наши обиды! Неправда, что рай открыт только животным — он открыт и детям… тем детям, которым посчастливилось. Паскаль в три года потерял мать. Ньютон рос без отца. Спиноза ребенком узнал, что взлелеявшая его грандиозная истина — ложь и мерзость в глазах его соседей-христиан. Разбуженная деятельная мысль, изгоняющая нас из рая, сама по себе — тоже счастье, тоже рай, хоть и другой, небожественный, требующий ежедневного возделывания, но начинается она ужасом: постижением того, что мир несовершенен. Может ли быть совершенен мир, где у тебя нет отца или матери? Мир, где тебя ненавидят или презирают, не заглянув к тебе в душу? Кто не пережил этого удара, остается в раю, в капсуле детского эгоизма, религиозного или национального, такого милого в детстве, — но взрослых превращающего в скотов. Кто пережил, принимается изучать творение Божье — скальпелем или резцом, формулой или рифмой.
А вот и первое, с чего начинается мысль. Худшее, горчайшее из всех несовершенств мира, тягчайшее из открытий младенческой души состоит в том, что несовершенен — я.
Мама била шестилетнего сына поленом и называла жидом. Мальчик уцелел, вырос крепким и закаленным, носил погоны, бороздил моря и океаны под советским флагом, немножко сочинял в прозе, стал диссидентом и горячим поклонником Солженицына, эмигрировал. Меня с ним свела нелегкая на Русской службе Би-Би-Си в Лондоне. К тому времени (1989) возмужавший мальчик оплешивел, но мускулы имел юношеские. В перерывах между переводами (мы назывались продюсерами, но в основном переводили) брался за эспандер. На меня он написал начальству донос: не может такой человек работать на радио, потому что картавит. Это была сущая правда. Картавость, слабый голос, пристрастие к стихам и отсутствие чиновничьего пыла делали меня никудышным ведущим. Худшего там не бывало.
Потом состарившегося мальчика уволили. В начале 1990-х как раз хороших людей увольняли, а он, ни в чем хорошем не замеченный, под руку попался. За ним был грешок: он частенько исподтишка заказывал себе такси за счет корпорации, чтоб ехать домой. Грешок вскрылся, ему заказали такси — и отправили домой в последний раз. Пошутили, но деликатно. Жулик был социально близок начальству. Хорошим — такси не заказывали.
Всё это к слову сказано: к тому, что не быть антисемитом — трудно, даже если ты из евреев. Тут некоторое усилие требуется, и оно не всем по карману. Особенно детям тяжело приходится. Родина заключает их в свои материнские объятья при первом проблеске мысли, а потом поди вырвись из этих ласковых рук. Виконт Герберт Сэмюэл, британский аристократ (из евреев) сказал как-то: евреи такие же люди, как всё, только еще больше такие. Русские евреи советской поры были такие же русские, как все, только — еще больше русские.
— Типично русский, говоришь? При такой фамилии? А как зовут отца?
— Иосиф.
— И он еще говорит, что он — русский! Да ты еврей.
И они продолжали разговор, как ни в чем не бывало, оставив мальчика одного на необитаемом острове. Большего потрясения ребенок до сей поры не переживал. Разговор случился в больничной палате. Как ему, восьмилетнему пациенту, после этого аппендикс вырезали, он и не заметил. Не до того было. Хоть всё отрежьте, только б не этот позор, не эта разлука с родиной и мечтой. Дома он с с замиранием сердца спросил маму: это правда?! Мама, не в пример той маме человек добрый, за полено не схватилась. Ответила уклончиво:
— А что тут такого? Евреи — красивые и умные. И у нас все народы равны.
Верно: за отца она вышла, потому что он был красив и высок ростом. Вышла девчонкой, в 1931 году. Выходя — вдохните глубже — не знала, что он еврей, а узнав, не огорчилась: на дворе стоял свирепый интернационализм, ей же случилось быть дочерью старого большевика. Чистый случай. А сыну она уклончиво ответила потому, что образования не получила, истории не знала, не говоря уж о религии, этом опиуме для народа, и сказать ей было нечего. Каков, однако ж, отец! Не обманул ли он бедную русскую девушку, не сказав ей об опасности? Нет, он и сам верил, что генофонд отменяется. Идея о «самороспуске» (как, вслед за Нордау, определял ассимиляцию Пастернак) «этой странной общности людей» висела в воздухе. Отец хотел быть русским — не в советском, а в широком смысле слова; хотел приблизиться к общему, освободиться от ненужной специфичности хотя бы в своих детях (самому-то ему трудно было при его внешности).
Зато мальчишку судьба наградила (или обделила). Ничего еврейского — ни во внешности, ни в мыслях. До восьми лет не догадывался. Ни мать, ни отец, ни бабка (тоже старая большевичка; деда уж не было) ни словом не обмолвились. Соседи по квартире тоже вопроса не заостряли, хоть были там и русские, и евреи. Чудо, да и только.
Мальчишке приходилось расставаться с мечтой. Он пережил страшный приступ ностальгии. Вообразите: послевоенные годы, послевоенный двор на Петроградской стороне; русские только что победили немцев и спасли мир; спасли даже тех, кого и спасать-то не стоило: англичан, американцев. Быть русским значило быть человеком. Всё доброе, всё задушевное, высокое, прекрасное и чистое одному только этому народу принадлежало. Тут не было вопроса, тут был один сплошной ответ. Русские ведь всегда были лучшими. Удивительно ли, что теперь они — самый передовой народ мира, что они первыми покончили с эксплуатацией человека человеком? (При капитализме, сказал один шутник, человек угнетает человека, а при социализме — наоборот.) Вся история русских озарена светом. Вот обложка книги: картинка в духе Васнецова; сражаются два богатыря верхами, у каждого щит и палица. Русский и татарин. Татарин, заметьте, нарисован с большой симпатией: это молодой, красивый и статный воин, гибкий, с тонкой талией, нарядный, да и палица у него получше. С такой симпатией нарисован, что, ей-богу, тут о дружбе народов в пору говорить, хоть эти двое норовят друг друга убить или изувечить, и вражда их — самая национальная. Замечательный татарин. Но разве можно его сравнить с русским богатырем?! Этот не то что красив, этот — прекрасен. Он рядом с татарином старик, ему под сорок, борода окладистая, но всё в его облике родное, всё взывает к сердцу, и ты всем сердцем знаешь, что он и мудр, и добр, слабого защитит, зме́ю-горынычу все двенадцать голов отрубит, а ребенка приласкает. Он — самый человечный из людей. Почему? Потому что русский. Этим всё сказано. И вот с этим-то и нужно было прощаться.
А Пушкин?! Тут еще один ужас. Всепоглощающая детская любовь к Пушкину тем замечательна, что она взаимна: и Пушкин тебя любит, любит только тебя, тебя — сильнее всех, как мама. Но с чего бы это Пушкину любить еврея? Ко мне постучался презренный еврей.
Конечно, там, в больнице, мальчишка нашел опору в любви другого великого человека: Сталина. Вождь хоть и умер недавно, но был бессмертен, и уж кто же любил меня сильнее его? Он и с того света мне на помощь пришел, подсказал ответ обидчику:
— Что же, и Сталин — еврей? Ведь он тоже Иосиф!
Обидчик ответил явной глупостью, несколько меня успокоившей: сказал, что и Сталин — еврей, и Ленин, и Молотов, вообще — все они, кто русскими правят, евреи, а уж в это никак нельзя было поверить. Чтоб русские, всех победившее, позволили кому-то собою править?!
Успокоила и мать, сказав, что раз она русская, то и я на самом деле русский. Кошмар на время отступил.
Мы впятером — родители, бабуля, сестра Ира и я — занимали большую сорокаметровую комнату. Лепной потолок: медальоны с виноградными ветками; малиновая печь с каминной полкой, тоже лепная, с архитектурными излишествами; паркет особенный, большими квадратами; а самое прекрасное и ужасное — две кариатиды при выходе в эркер: две голые грудастые терракотовые бабы, ниже пояса переходящие в какие-то подобия саркофагов. Ну, и мебель тоже — от бывших: в эркере — козетка красного дерева, с набитыми на ее ножки и подлокотники медными кружевами; между кариатидами — стол прихотливого абриса, каких я с тех пор ни разу не видел, с ножками, словно бы перехваченными в талии, сходящимися в одну а затем расходящимися бутоном столь причудливым, что впору было лезть под стол и разглядывать эти фортеля как произведение ваятеля (что я, конечно, и делал в дошкольном возрасте). Живи с малолетства в такой комнате — и точно будешь знать, что ты — избранник божий. У соседей ничего подобного нет. На двери нашей комнаты — медная ручка грушей. Типичный модерн — но никто на квадратные километры вокруг не знает этого слова. Не знают и того, что Петроградская сторона начала застраиваться поздно, в начале XX века; что дому — пятидесяти лет нет; не думают о таких пустяках; и ребенок воспринимает свой обшарпанный дом как один из образов вечности.
Выйдешь в коридор — направо дверь к Семену Ефимовичу и Александре Ивановне. У них — нечто неслыханное: ванная комната. Можно в баню не ходить. Детей нет. Александра Ивановна, молодая, добрая, невероятно красивая, не встает: умирает от рака, и это страшно. Семен Ефимович — седой, нелюдимый. Когда Александра Ивановна умерла, он, случалось, приходил с дамами, и мы гадали: не появится ли на коммунальной кухне новая хозяйка?
Налево по коридору две комнаты в одной, и в них — Назвичи: Григорий Захарович, Александра Моисеевна и их дочери, Люба и Марина. Григорий Захарович лыс, как сапог; работает бухгалтером; всегда молчит. Как-то пришел с работы (рассказывала Александра Моисеевна) и сидит перед тарелкой супа, а суп остывает.
— Почему ты не ешь? — спрашивает жена.
— Ложки нету, — отвечает муж.
Допускаю, что говорили они между собой не только по-русски, но я другого языка не слышал. Вообще тридцать лет ни одного другого языка не слышал в целом городе — как такое объяснишь по другую сторону границы?
В конце коридора — еще одна комната, с роскошью под стать ванной: с балконом. В ней — Шишкины: дядя Гена, тётя Валя, Вовка (мой ровесник) и Вадик (маленький). Все старшие в квартире были с друг другом на вы и по имени и отчеству, а тут — Гена и Валя. Гена — бывший солдат, прошел войну, после войны служил в Германии. Он ростом ниже Вали, что кажется нелепостью. Работает на заводе, по праздникам крепко выпивает; с Валей ругается, и эти громкие ссоры — престранное дело: как это ругаться с женой? Ведь она родная. Я совершенно этого не понимаю — и всё допытываюсь у Вовки: о чем они? Но и Вовка не понимает. Днем, после школы, у Вовки можно послушать радио (в других комнатах его не включают): задушевные голоса, рассказы и повести обо всем на свете, рассказы о наших социалистически достижениях, а с ними и о мерзостях, творящихся на диком Западе. Худшее ругательство пятилетнего мальчика политизировано: родителей он в пылу досады назвал американским правительством, чем насмешил всю квартиру. Гена Шишкин дружелюбен и неглуп. Когда в школе пошла арифметика, помогал решать задачки (чего от отца не дождешься). Первый урок алгебры тоже от него получен: решая арифметическую задачу, он вдруг начал складывать, делить и умножать буквы — и этим потряс душу соседского ребенка.
Напротив Шишкиных — дверь в кухню; рядом с кухней — коморка для прислуги и уборная. Прислуги, конечно, нет, но кто-то там по временам обитает.
Мать — домохозяйка. Она общительная, веселая, но немолодая: ей сперва под сорок, а потом за сорок. Первую дочь, сестру Иру, она родила девятнадцати лет, а Юру — в 33 года. Александра Моисеевна, тоже домохозяйка, примерно тех же лет, что мать. Девочки ее ребенку кажутся взрослыми: Люба чуть старше Иры, Марина старше Юры. И мать, и Александра Моисеевна много времени проводят на кухне, готовят на примусах, судачат, изредка и печь топят дровами. Однажды Александра Моисеевна говорит матери:
— А я, Валентина Федоровна, вчера девочкам напильники купила!
— Александра Моисеевна, зачем же девочкам напильники?!
— Ну как же! Это так модно. Вот я вам сейчас покажу ткань. Завтра отнесу портному… а может, вы сошьете?
— Ах, на пыльники…
— Да ведь я же и говорю: на пильники.
К Назвичам не войдешь так просто, как к Шишкиным, но всё же иногда — войдешь. У них в комнатах своя достопримечательность: картина на стене, репродукция брюлловской вещи Итальянский полдень из Русского музея: девушка с виноградной кистью. Зачем им виноград и Италия? Бог весть. Но, приглядевшись, понимаешь (конечно, по прошествии лет), что улыбчивая и радушная Александра Моисеевна в молодости очень должна была походить на эту девушку-итальянку с явно семитскими чертами. Повзрослев, можно и другое понять: что Брюллов — не выдумщик; что он, скорее всего, с натуры писал, только не в Ломбардии, а ближе к Неаполю или в Сицилии. Весь юг Италии как раз и является отчасти семитским, не может быть иным; в последние столетия империи сюда хлынул Ближний Восток, в средневековье — еще и сарацины генофонд подпортили. А в Риме евреи жили с первого века нашей эры, когда сегодняшних итальянцев и в проекте не было. Они там коренные. И не только там…
Потом у Назвичей еще одна картина была повешена, лучше первой. Люба вышла замуж на морского офицера, и на стене появился гордый крейсер Киров, упоительно разрезающий волны своим носом, острым, как бритва. Глаз не оторвать!
Все в квартире жили дружно (было тогда такое словечко). Никакого антисемитизма со стороны национального меньшинства не наблюдалось. Наоборот, добрая тетя Валя так была расположена к нам, что отцу моему в порыве радушия прямой комплимент сделала: сказала матери, что он совсем не похож на еврея.
Двор в ту пору был общиной; все друг друга знали, и стар и млад. Во дворе поначалу ничего не чувствовалось; что мог чувствовать светловолосый мальчик с такой славянской внешностью? В семье ничего не произносилось. От отца я слова еврей до самой его смерти не слышал. Но всё же одно во дворе явственно висело в атмосфере: евреи не воевали. Откуда это взялось? Никаких высказываний память не сохранила. Мать, в простоте душевной, тоже могла так думать. Сказав: «красивые и умные», не добавила: «смелые». Да и видно было по всему, что они трусоваты. Сам я был скорее робок, чем смел; понял это рано, мучился этим. Висевшее в атмосфере пропустил через себя и принял на веру. Что евреи были, некоторым образом, лучшими солдатами в той страшной войне, не знал; да и никто не знал. Выяснилось это с большим опозданием, в 1990-е, когда опубликовали статистику по героям-фронтовикам. Оказалось, что до 1943 года евреи шли на первом месте (в пропорции к численности населения в СССР) по числу героев Советского Союза. Еще оказалось, что в правительстве непорядок вовремя заметили и специальным циркуляром запретили давать евреям это звание. Но и в оставшиеся два года войны другие представители великой семьи народов, исключая русских, не нагнали зарвавшихся евреев; евреи удержались на втором месте — с большим отрывом от всех прочих (и с небольшим отставанием от русских, которые, что ни говори, генетический конгломерат; будь я человеком доблестным, я бы не еврейский список пополнил, а русский). Тут дадим слово антисемиту или хоть еврею-скептику: «Евреи и на фронте не воевали! Сидели писаришками штабными — и своим же выписывали геройство…» Нужно ли возражать на такое? «Ужели нужны, милый мой, Для убежденных убежденья?» Возражать не станем, а несомненное отметим: лучший солдат — солдат хорошо мотивированный. Герой знает, за что сражается. Усилием воли превозмогает такие очень еврейские недостатки, как хорошо развитое воображение и низкий болевой барьер. Советские евреи, повторим этот плодотворный парадокс, как раз и были русскими, только еще больше русскими. А на Западе они были французами, британцами и — там это не вступало в противоречие — одновременно евреями. По словам де Голля, синагога дала больше солдат, чем церковь (в Сопротивлении, добавим, сражалось много русских и вообще иностранцев). Во Франции есть памятник Ариадне Скрябиной, дочери русского композитора, погибшей в Сопротивлении — в еврейском Сопротивлении. Ничего этого послевоенный советский двор не знал; не знала интеллигенция, не знали сами евреи. Откуда было знать мне?
После второго класса меня вывезли на дачу — в Озерки. Да-да, в 1954 году это был загород, дачная местность. На чем туда ездили, уму не приложу (выражение как раз той поры). Ни трамваев, ни автобусов не было. С Поклонной горы в сторону поселка вела дорога, мощеная булыжником. На ней как-то мама наблюдала мое падение с велосипеда и, бедняжка, очень испугалась (дорога шла круто вниз). Велосипед был еще детский; другой, со свободным ходом, появился чуть позже, этим же летом, и сказал свое веское слово.
Снимали второй этаж с громадным балконом, обнесенным балюстрадой с пузатыми столбиками. За палисадником шла пыльная улица. На ней — и, сколько помню, только на ней — разворачивалась общественная жизнь детворы. На ней меня однажды побили. Пикантная история. Может быть, первая запомнившаяся мне драка. Общественность ликовала:
— Смотрите, первоклассник третьеклассника бьёт!
Это была не совсем правда. Победитель окончил первый класс, а я перешел в третий. Ростом он был ниже, в плечах шире. Может, и не моложе меня был, но пусть моложе, я своего позора умалять не стану. В последующих драках меня тоже обычно били; подводила, должно быть, еврейская трусость — а что еще? Трусость, она же — сильно развитое воображение, да не по росту слабые руки. Плох я был в рукопашном бою, что скрывать; неловок, медлителен. Перед стычкой не озлобление чувствовал, а мировые вопросы решал: быть иль не быть? зачем живем? в чем позор и в чем честь? Трусость ведь именно так всегда о себе и заявляет: вопросом, сомнением, зато немедленно проходит с храбростью, когда нет ни вопросов, ни сомнений. Превращается в доблесть, а та — не рассуждает, исходит из данности. Десятилетия спустя, в 1990-х, на русской службе Би-Би-Си (о которой доброго слова не скажу) я, по просьбе коллеги, перевел балладу Альфреда Теннисона Атака легкой кавалерии — о Крымской войне, о деле под Балаклавой, где в дурацкой атаке — с саблями на пушки — полегла под русской картечью элита британской аристократической молодежи. Перевод этот, сделанный наскоро, для очередной передачи, с тех пор стал, можно сказать, классическим, вызвал массу откликов; в юбилейном фильме 2005 года телеведущий и режиссер Леонид Парфенов (говорят, знаменитый, а я о нем на своих выселках только в связи с этим и услышал) прочел его с экрана для всей нашей внеисторической родины. Вот фрагмент, относящийся к делу:
|
Лишь сабельный лязг приказавшему вторил. Приказа и бровью никто не оспорил. Где честь, там отвага и долг. Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. По первому знаку на пушки в атаку Уходит неистовый полк. |
Строка «Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен» прекрасно передает суть того, в чем мне было отказано в уличных стычках. Ее (эту строку, да и весь перевод) в последние — парижские — годы своей жизни повторяла на память Раиса Львовна Берг, генетик и правозащитница.
Не всегда меня били, нет, да и не часто я дрался, но редко брал верх. Доблестную, быструю и решительную победу запомнил только одну: в 1960 году, в седьмом классе, в коридоре 121-й школы, над неким Успенским из 7-в. Характернейший момент: мальчик был из приличной семьи, интеллигент, не то что я, хоть и выше меня ростом, а это среди тогдашних тринадцатилетних встречалось редко; должно быть, мотивации не имел драться. К пятнадцати годам я высоким казаться перестал, так и застрял на 180 сантиметрах, которых достиг к тринадцати; и в этом же самом коридоре был позорно бит ровесником Валерой Эглисом, надо полагать, из литовцев, хотя я долгие годы возводил его фамилию к французскому eglise. Коридор был тот же, но школа — другая: 43-я вечерняя школа рабочей молодежи. Эглис был выше меня, из самого простонародья; рядом с ним уже я казался интеллигентом.
Общественная жизнь взрослых и детей протекала в Озерках 1954 года на озерах, давших имя поселку. Там загорали и купались. Там я тоже опозорился: стоя по колено в воде, брызгал на другого мальчишку и кричал:
— Я его эксплуатирую!
Не сразу, а к вечеру был я мамой за это отчитан; мол, сидевший рядом с нею на берегу молодой человек попрекнул ее необразованностью сына. Что и говорить, с культурой было плоховато, зато как в этой ошибке видна эпоха!
Самый страшный озерковский позор связан для меня не с дракой и не с бескультурьем. Хватит ли духу рассказать? Кому рассказываю? Что водит моею рукой? У хозяина нашего дома был сын моих лет. Естественно, нам нужно было познакомиться. Назвав свое имя, я добавил:
— А фамилия у меня не совсем обычная… — И весь в комок сжался перед тем, как ее произнести.
Смятение этой минуты живет во мне более полувека — а полвека, заметим к слову, порядочное время, целая одна сороковая часть культурной истории Европы. Тридцатилетняя война — и та длилась на двадцать лет меньше. Смятение? Да нет: просто унижение. У каждого человека должна быть своя ниша, у ребенка — тоже; в особенности у ребенка. Отчего родители не позаботились оградить меня? Это было так просто. Заметьте: мне — восемь лет, и я уже знаю о своем неискоренимом уродстве. Сейчас, когда от меня слышат, что я не люблю Россию и упрекают меня за это, я спрашиваю: где взять силы для любви без взаимности? Сперва любишь, потом любишь сквозь слезы, а потом — устаешь и перестаешь любить. Десятилетиями люди менялись в лице, услышав или прочитав мою фамилию. Десятилетиями я говорил себе: они — еще не Россия; есть Россия Пушкина. Но вот настала Россия Путина — и последняя надежда угасла. «Русские Афины» были да сплыли. Они целиком укладываются в 35 лет: от первого стихотворения Пушкина до эмиграции Герцена. С середины XIX века Русские Афины ненадолго становятся Русским Иерусалимом, совестью христианской Европы. Являются Толстой, Достоевский, Чехов. А что сейчас на дворе? Русская Ниневия. Гусеницы, боеголовки и зубовный скрежет. Ненависть и тупая злоба без проблеска нравственной работы — это на смену-то всемирной отзывчивости, непротивлению злу, милости к падшим! Большевики могли казаться временным помрачением. Они слиняли в одночасье. И что же осталось? Нет той России — и никогда больше не будет. Посмотрим правде в глаза: генофонд сменился. Не может один и тот же народ так переродиться за время исторически столь короткое.
— У меня тоже фамилия не совсем обычная, — ответил мне сын хозяина дачи. И с некоторым усилием произнес: — Трусов.
Мечтой нескольких лет был для меня подростковый велосипед орленок со свободным ходом. Гамма чувств, связанная с этим простым механизмом, подобна первой любви. Добрые сверстники из счастливцев иногда, неохотно и покровительственно, дозируя мое наслаждение, давали мне покататься, и я до сих пор помню трепет, охватывавший меня, когда я садился в настоящее пружинное седло и клал руки на мягкое и упругие ручки из какого-то божественного материала (скорее всего, из резины). Именно эти ручки были чувственным апофеозом. И еще — упоительная форма руля, будившая в душе смутные ассоциации: напоминавшего вогнутый посередине восточный лук с накладками из рогов буйвола. Я ныл и требовал года два, и вот тут, в Озерках, отец сказал: так и быть, купим тебе велосипед. И что же мне купили?! Последовало одно из самых страшных разочарований моей жизни. Не было в городе орленков; или отец поленился, не нашел. Он притащил из города что-то импортное и вполне взрослое, но чудовищное. Ручки были из бьющегося пластика (и одна разбилась немедленно, при первом же падении). Форма руля была вздорная, оскорбительная. А самое страшное состояло в том, что велосипед был, собственно говоря, женский, с опущенной рамой. Я охнул от ужаса. Меня уговаривали. Я смирился и какое-то время катался на этом чудовище, терпя насмешки. Вместо разбитой ручки отец получил в магазине другую. А потом — велосипед украли. Он стоял внизу, на второй этаж я его не поднимал, и вот как-то ночью добрый человек проник в дом и велосипед унес. Каким-то образом стало известно, что хозяин дачи видел это, но не воспрепятствовал вору. Так, во всяком случае, говорили.
На одной даче в Озерках жил мальчик по имени Артур. Имя изумило меня (я что-то слышал о Порт-Артуре), внешность — и того больше: маленький, черноволосый, кареглазый, задумчивый, с мелкими и (мне казалось) очень красивыми чертами лица. Как меня к нему тянуло! Но оказалось, что дружить с ним почему-то нельзя. Не выходил он на улицу, не хотел играть с нами. Что меня к нему влекло потому, что он не такой, как все, — в этом сомнения нет. Но только ли поэтому?
В 1953 обучение было раздельное. Девочки ходили в одни школы, мальчики — в другие. Я жил на Пердеке — на переулке Декабристов, дом четыре, квартира пять. Правильнее было бы сказать: в переулке, но уж так тогда говорили, в то время, в том месте. С этим я вырос. Сейчас переулок называется Офицерским; ему вернули досоветское имя. Места тут издавна военные, с инженерным уклоном. На реке Петровке (потом она стала Ждановкой) еще при Петре I появилась инженерная рота. Позже, когда возникли улицы, до самого прихода большевиков на Спасской (при мне — Красного курсанта) располагался 2-й кадетский корпус. Офицеры тоже тут квартировали, и как раз на Пердеке. На Ждановке, точнее, чуть в сторону от нее (и в двух шагах от меня), располагалось военное ученое и учебное заведение всесоюзного масштаба: высшая военно-воздушная академия имени Можайского. Кто сей Можайский? А это наш русский изобретатель самолета, Александр Федорович. В 1883 году изобрел; патент взял. Самолет на паровой тяге. Братьев Райт на 20 лет опередил. Самолет его, пожалуй, и взлетел бы, да уж очень иностранцы мешали, и царское правительство денег не давало.
Пердек начинался от Ждановки и упирался в Красного курсанта. Через Ждановку, как раз напротив Пердека, был деревянный мост на стадион имени Ленина, внешне пристойный стадион, каменный, устроенный амфитеатром, но всё равно какой-то захолустный; его сперва невероятно долго сооружали, всё мое детство, а потом мало использовали; Зенит, единственная ленинградская команда класса А, всегдашний аутсайдер, играл не там, а на островах. С Пердека по Съезжинскому (да-да, именно так) переулку можно было выйти на Малый, а там и на Большой проспект Петроградской стороны. На Малом (угол Красного курсанта) была женская школа №66, бывшая и будущая гимназия, ее окончила моя сестра Ира, четырнадцатью годами старше меня; на Большом в доме 18 — мужская школа №52, в здании, мало для этого приспособленном (потом там долгие годы помещался книготорговый техникум). В эту школу меня и определили в первый класс в сентябре 1953 года.
Чувство родины было у меня обострено до крайности, и 52-я школа, во всех отношениях жалкая, вошла в это чувство неотъемлемой составляющей. С такой силой вошла, что когда на следующий год ввели совместное обучение, и я оказался в 66-й школе, я потребовал перевода обратно. Потребовал — и добился. Первое самостоятельное движение воли. Чем была нехороша 66-я? Это была чужбина. Нет, было еще одно движение воли. На чужбине я сидел за одной партой с Леной Борисовой, мы повздорили, и я попросил меня пересадить. На вопрос учительницы ответил:
— Мы не сошлись характерами, — чем вызвал дружный смех в школе и дома. Такова была стандартная формула, объяснявшая развод супругов.
Со второй четверти второго класса я вернулся на родину: на Большой проспект, и там влюбился. Нельзя сказать, чтоб это была моя первая любовь; самая первая случилась до школы; но эта — оказала колоссальное влияние на мою жизнь: можно сказать, изуродовала ее, а можно в ней и благословение божье увидеть. Какая любовь в восемь лет? А вот какая: расстался я с возлюбленной, будучи студентом пятого курса. Расстался после ее слов:
— Я их не люблю.
Пикантно здесь то, что во втором-то классе выделил я возлюбленную не иначе как по зову предков: потому, что она была на еврейку похожа. Это мне сейчас такое мерещится; шальной ход мысли — и спекулятивный; что тут проверишь? Я даже больше скажу: инстинктивно — во втором классе и я их не любил; дворовая жизнь уже произнесла свое веское слово, а дома молчали. Но генетические механизмы могли работать на подсознательном уровне — и даже на более глубоком, чем подсознание. Единственная во всем классе, моя Беатриче казалась девочкой восточной, но не монголоидного, а словно бы персидского типа. Позже ее, в самом деле, часто принимали за еврейку, что ей досаждало. Была же она, скорее всего, болгарских, а значит, вероятно, отчасти турецких кровей. Тоже — догадка. Ее фамилия с некоторой натяжкой отсылала к одному знаменитому болгарскому городу или к одному незнаменитому украинскому, где, впрочем, те же турки свой генетический след тоже очень могли оставить. Глаза у турчанки были зеленые; я это вполне уяснил не во втором классе и не на пятом курсе, а еще два десятилетия спустя.
В дошкольные и первые школьные годы главным моим занятием было лазать по крышам, чердакам и подвалам в компании сверстников. Предприятия были рискованные, нрав у меня — если не вовсе хулиганистый, то всё же ближе к этому, чем к другому. Местные власти (дворники) и общественность меня хватали за то, что я бил стекла в квартирах и рисовал на стенах домов (мелом). Случались и другие молодецкие дела — вроде опытов с негашеной известью и катания на понтонах на Петровском острове. Были коллективные драки, двор на двор, с палками и швырянием снежками (а то и камнями), но не жестокие, во всяком случае, жестоких память не сохранила. Мы были фирсовцы, а наши противники, «генеральские сынки», — котовцы. Была во дворе яблоня, да-да, и не маленькая, а громадная, яблоня-китайка в четыре этажа ростом, плоды с которой приходилось сшибать палкой; как тут в стекло не угодить? Одним из дворовых заводил слыл у нас Вовка Турчин, несколькими годами старше меня, но совершенно свой. За ним установилась репутация задиры и хулигана, а больше я ничего не чуял. К концу 1950-х он буквально ошеломил меня, женившись на примерной, добропорядочной и спокойной Марине Назвич, соседке, казавшейся мне старше Вовки. Тут только я и догадался. Тут уж точно был зов предков. Это ж надо!
Читать я начал поздно. Мешала гиперактивность. Однако бабулю, которая читала мне перед сном Дюма, слушал охотно, особенно про д’Артаньяна. В школе заставляли читать и брать книги из школьной библиотеки. Понравилась мне только одна: Три толстяка Юрия Олеши, больше всего — героиня, девочка Суок, на рисунке похожая на мою избранницу. Собственно, с этой книги и началось; любовь началась с того, что мы с нею, с будущей избранницей, болтали у стойки абонемента в школьной библиотеке о книжках, в том числе об этой. Благородных разбойников я получил не от Шиллера, а из Графа Монте-Кристо; пытался во дворе учредить благородное разбойничество, но поддержки не нашел; приятелям забава показалсь книжной. Моим собственным выбором стала книга Саббатини Одиссея капитана Блада. Привлекало меня только героическое, победное. Помню, с каким отвращением я отвернулся от дона Кихота Ламанчского.
Пушкин и Лермонтов в счет не идут. Они начались, спасибо маме и бабуле, до школы, и были не чтением, а храмом. Я попался в младенчестве. Русская просодия заворожила меня; в шесть лет, не умея толком писать, я уже сочинял. Влюбленность, турчанка Беатриче (на самом деле ее звали не так), закрепила болезнь, погубив и осчастливив меня на всю жизнь.
Как раз ко второму классу в доме появились подписные многотомные издания. Первым попался мне под руку Жюль Верн; точнее, его я из рук отца получил, с его рекомендацией. С Жюля Верна и началось у меня запойное чтение, успокоившее мать. К шестому классу я добрался до Виктора Гюго. Произошло невероятное: я практически залпом прочитал все пятнадцать томов его советского издания, не исключая и чудовищных, тяжеловесных александрийских стихов (таких ломких в переводах Шенгели и прочих) и еще более чудовищных памфлетов. Гюго и вообще скучен и плоск. Действие развивается вяло, пространные отступления не должны были нравиться мальчишке. В отдельных изданиях Тружеников моря весь первый раздел (первая книга; у Гюго каждый роман разбит на книги) вообще опускают; там нет людей, только описание природы Гернси; но когда я увлекся манерой Гюго, его стилем, именно эти скучноты стали доставлять мне особое, терпкое наслаждение. Культурные, исторические и филологические реминисценции шли стеной — и завораживали. Приоткрывалась Европа.
Однажды Виктору Гюго задали провокационный вопрос: «Кто первый поэт Франции?» Он ответил: «Второй — Альфред Мюссе». Когда спустя десятилетия похожий вопрос (уже без провокации) был задан Андре Жиду, тот со вздохом ответил: «Увы, Виктор Гюго». Увы! Еще бы не увы! Это была писательная машина, графоман чистой воды. Двадцать страниц прозы и 80 строк стихов — ежедневно. Ополоуметь можно. Повзрослев, понимаешь его незначительность; для мальчишки же позерство и фразерство звучали горном и литаврами. Какой контраст с русскими стихами! Но это была школа.
|
— Кто ты, охотник? Мерцают зарницы, С криком зловещие носятся птицы, Ветер жесток. — Тот я, кто в сумраке ночи таится: Черный стрелок! |
Это было первое самостоятельное чтение. Читал я не только основной текст, но и примечания. Всё мое скудное начальное образование пошло отсюда, от Гюго и этих примечаний (при ближайшем рассмотрении убогих). Спасибо графоману; он разбудил во мне мысль. Всё в нем нравилось, в первую очередь его свирепость. Это ж надо так сказать: «Мериме родился подлецом; его нельзя за это винить»! Чудно!
Благородный разбойник Эрнани не дорожит единственной вещью на белом свете: своею жизнью. В грош ее не ставит. Слова не может сказать, чтоб не вручить ее кому-нибудь, да позаковыристей. Человек отказывается, он говорит: нет, бери; мне больше не надо! Попользовался и хватит. А эти полоумные романтические героини, чистые, как альпийские снега? В пародии Чехова на Гюго возлюбленные «смотрели друг на друга часа четыре»…
В каждом французском городе есть улица имени Гюго — как улица Ленина в России. Отверженные, Les Miserables, долго казались незыблемой классикой, а стали опереткой, мюзиклом; пьеса Король забавляется — оперой (и Риголетто; Кармен Мериме, возникшая не без помощи пушкинской Земфиры, тоже стала оперой).
— Ты убил человека!
— Нет, еврея…
Это — из его пьесы Мария Тюдор. Гюго был страстным антиклерикалом и не совсем последовательным пацифистом. Он проклял гильотину и всю жизнь боролся за отмену смертной казни. Он предрек Соединенные Штаты Европы (со столицей в Париже). Братство народов (во главе с народом французским, этим светочем человечества) не сходит с его уст. Но один народ для этого братства не годился. Угадайте, какой. Я в двенадцать лет угадал. Тут и угадывать было нечего. Картина мира достраивалась по кирпичику.
Фамилии были такие: Столбушинский, Плуксне, Осташевский и Колкер. О первых двух не подумайте дурного. Плуксне так вообще, можно сказать, родные края навестил; фамилия латышская. Был еще пятый, но память его не удержала; мерещится, что Гордеев. В таком составе нас, детей работников института Гипроникель, отправили в пионерский лагерь в Булдури под Ригой. Осташевский окончил четвертый класс и попал в пятый отряд, прочие были годом моложе и попали в четвертый отряд.
Руководила нами молоденькая белоруска. Я полюбил ее с первого взгляда, тянулся к ней как к матери. Она пела на своем наречии что-то задушевное и не совсем понятное:
|
Дык зноў тую песню, дзяўчынка, спявай, — Пад ціхі твой спеў я засну… |
Понятно было только: «тую песню» да «твой», но за сердце хватало. А как иначе? Родное. Жаль, имени пионервожатой не помню. Красивая была.
Она водила нас, строем и под барабанный бой, в поселок, казавшийся городом. Я был помощником барабанщика, его заместителем. Мне всё казалось, что я барабаню не хуже, однако до прямого барабанщика возвыситься мне не удалось; на выход из лагеря всегда ставили другого. Обидно было до слез. Вообще со мною она была как-то неласкова, к другим детям относилась теплее, а меня словно бы отстраняла.
Как-то она завела нас в магазин. Сейчас мне это кажется странным: что это пионерам в магазине делать, да еще обувном? Но я бы ни Булдури не запомнил, ни этой задушевной девушки, если бы не магазин и наш короткий диалог. На витрине я увидел цены — и ахнул:
— Неужели ботинки так дорого стоят?!
Вожатая ответила мне странно:
— А ты что, не знал?
Странным был даже не столько ответ, сколько тон; мне в нем почудилась злоба. Зачем эта улыбчивая девушка так на меня посмотрела? Почему так ответила? Ведь она явно хочет меня обидеть.
В Булдури я научился играть в пинг-понг и волейбол. Волейбол потом большое место занял в моей жизни, в тринадцать лет я был перворазрядником и чемпионом города среди юношей в составе Спартака. Развлечений в лагере было много, но вопрос доброй девушки долго не выходил у меня из головы.
Это случилось в 1956 году. В 1963-м история повторилась. Учитель химии в 43-й школе рабочей молодежи недолюбливал меня, занижал мне оценки. В школу в погожие дни он приезжал на велосипеде с мотором. Однажды случилось, что я находился в вестибюле, когда он выводил своего росинанта из гардероба на крыльцо. Я спросил, сколько в моторе лошадиных сил — и услышал в ответ совершенно те же слова и ту же неприязненную интонацию:
— А ты и не знаешь?
Я немедленно вспомнил Булдури — и начал догадываться.
Чёрчилль говорил: «Евреи — маленький народ, но в каждом конкретном месте их почему-то много». Та же мысль начала меня преследовать в 1961 году. Пятнадцати лет я пошел работать — чтобы выиграть год для поступления в институт. В дневных школах ввели одиннадцатилетнее обучение, в вечерних еще оставалась десятилетка. Проблема была нешуточная: в случае непоступления мне грозила солдатчина, чего мать никак не хотела допустить, и была права, хорошим бы это, при моем характере, не кончилось. Определили меня в семейный институт Гипроникель, где с 1936 года работал мой отец, а с 1960-го — еще и моя сестра. Головное учреждение находилось на Невском 30, в одном доме с малым залом филармонии, а опытная установка института — дом в дом с нашим новым жильем. Мы как раз получили двухкомнатную квартиру в гипроникелевском доме по адресу дорога в Гражданку 9 кв. 20. «Установка», большая территория, занятая цехами и лабораториями, числилась домом 11 по той же дороге в Гражданку, потом ставшей Гражданским проспектом.
Оказался я в гидрометаллургической лаборатории, в автоклавной группе, в должности препаратора с окладом в 45 рублей в месяц. Поначалу, как 15-летний, работал не восемь, а шесть часов. В автоклавах выщелачивались руды цветных металлов. Опыты ставились для мончегорского и норильского предприятий. Первым и главным моим впечатлением стала мелкотравчатость прикладной науки, не раздвигавшей, а стягивающий умственные горизонты. А мне ведь именно такую карьеру пророчили. Получить инженерный диплом и всю жизнь заниматься такой чепухой? От этого кровь стыла в жилах. Где же тут место Ньютону, Амперу, Эйнштейну?
Вторым впечатлением стало засилье евреев. Тут было, о чем призадуматься. Возглавлял группу Игорь Юрьевич Лещ, его помощниками состояли Игорь Григорьевич Рубель и Яков Михайлович Шнеерсон; старшему, Лещу, не было 30 лет. Этажом выше с пробирками сидели Лора Марковна и Фрида (от этого имени голова шла кругом) Михайловна. А руками работали наши честные простые советские люди: Платон Трофимович (бывший полковник), Витя Виноградов (старше меня всего на два года, но уже специалист), Лёша (сорока с лишним лет), — без головоломных имен и с правильной формой носа, свои. Однако ж почти сразу вслед за мною поступили лаборантами какие-то не совсем правильные юноши Володя Глейзерман и Миша Медер (оба, как и я, полукровки), но они тут оказались временно и с дальним прицелом: учились, пройдя армию, в Горном институте на вечернем отделении, и заранее готовили себе рабочие места на будущее. Что же это такое? — спрашивал я себя; и не понимал, с теми я или с этими. Особенно потому не понимал, что не видел, чтобы те были так уж особенно умнее этих, были они только одеты чище, да и сам я излишнего ума и интереса к делу не обнаружил. Вопрос висел в воздухе. Стандартный вопрос антисемита.
О том, какой я был работник, лучше не рассказывать. Я даже и старался, да толку было мало. Нещадным образом бил дефицитные колбы. Замечтавшись, путал препараты. Отвращение к работе, потребность в уединении — перевешивали всё. Не знаю, к месту ли это здесь, но лень — по пословице — гигиена таланта. Отвращение к работе подкреплялось отвращением к низкому языку и низким интересам людей, меня окружавших. Я как раз Брюсова тогда читал. Юноша бледный со взором горящим, ныне даю я тебе три совета… Я уже прочел Будем, как солнце Бальмонта… А тут?!
Лещ, маленький, горбоносый, неприятно-язвительный, считался очень талантливым, даже наглым (те, кто умнее нас, всегда кажутся нам наглыми). Фамилия Шнеерсона не вызывала у меня никаких культурных ассоциаций. Про любавичских хасидов я и не слыхивал — потому что вообще о евреях только слыхал. Точнее, она, эта фамилия, вызывала блатные ассоциации, приводила на память одесскую песню: «Ужасно шумно в доме Шнеерсона…» Было ему тогда 25 лет. Высокий, робко-надменный, — нам, работягам, он казался смешным. Ходил, чуть-чуть откидываясь назад. Вчерашний маменькин сынок, неженка.
Игорь Рубель — шахматист, мастер спорта, в прошлом (кажется, в 1958-м) чемпион Ленинграда. Крупный, с большой, почти вовсе лысой головой, которой он непрестанно покачивал; тяжелые веки, толстые губы. Угри на лице удалял насосом для фильтра: прикладывал конец отсасывающего шланга к вулканическому образованию. Остатки волос зачесывал поперек лысины слева направо. Помню его слова:
— Быть квалифицированным спортсменом очень приятно. — Это он о шахматах говорил и о моих занятиях волейболом; я тогда играл в юношеской команде Спартака, и мы были чемпионами города.
И еще:
— Если бы я сейчас играл, как играл в военное время, я был бы чемпионом мира…
Его жена Ася тоже работала «на установке», в другом корпусе; иногда заходила в нашу автоклавную. Шел слух, что в годы студенчества за нею ухаживали оба: Рубель и Шнеерсон. Это казалось странным: Шнеерсон, в моем представлении, должен был быть моложе и Аси, и Рубеля. Не знаю, так ли оно было. В итоге — в мужья Асе достались оба. После смерти Рубеля она вышла за Шнеерсона. Рубель погиб в 1963 году: летел в Красноярск в командировку (по другим сведениям — на матч Ботвинника с Петросяном); самолет разбился под Казанью.
Помню сцену: три еврея в автоклавном зале над каким-то громадным графиком на миллиметровке. Стоят, ломают голову. Не понимают. Вдруг Лещ хохочет: «Это и должна быть прямая! Сейчас объясню…».
Лещ тоже умер не своей смертью. Его убили в 1990-е годы. Странное убийство, без ограбления. А вынести было что: он многие годы собирал картины. Вообще был, кажется, богат. Убили его дома, в квартире, ничего не взяли, квартиру сожгли, причем и картины погибли.
В 1960-е этот некрасивый, как мне казалось, человек слыл еще и проказником. Передавали истории, казавшиеся мне гадкими и невероятными. В них фигурировали женщины «с установки», которых я видел каждый день; в том числе и комсомольская вождица. Передавались подробности, которые без Леща и вождицы вообще всплыть не могли: о том, что между ними произошло в постели; ее бешенство, вызванное его холодностью. Выходило, что они сами их рассказывали, и вернее всего — он; и что супружеская верность ничего не значит (Лещ был женат). И еще выходило, что женщинам «только это» и нужно.
Были «на установке» кандидаты наук , очень немногочисленные, и один-единственный доктор наук, он же начальник всего отдела (всей «установки»): Вольф Лазаревич Хейфец. Что тут скажешь! Одно имечко чего стоит. А внешность! Короткий, толстый, с вывернутой нижней губой. Старый и лысый. Отталкивающий. Как жить с таким именем, с такой внешностью? Что он получает от жизни? Я бы, мне казалось, руки на себя наложил.
— Он — профессор? — спросил я Рубеля, моего непосредственного начальника.
— Нет, — ответил тот, — но если уйдет от нас преподавать в Горный институт, то вернется уже профессором…
Профессором! Из этой-то дыры, с установки Гипроникеля?! Но, с другой стороны, — в Горный институт… что за название! Тоже, небось, дыра. Другое дело — наш Политехнический… Много позже, в 1990-е, на Би-Би-Си, я узнал (со слов химика Филановского), что Вольф Хейфец был настоящей легендой. За научной консультацией у него люди в очередь становились. Приезжали из других городов. Дома у Хейфеца была приемная: перед комнатой — скамья, а на ней — просители, сидящие рядком днем и чуть ли не ночью. «Вольф Лазаревич, в Норильске выходА упали!!» — «Сделайте то-то и то-то!» — «Спасибо! Лечу назад!»
В 1963 году «на установке» почему-то пошли нападки на Игоря Юрьевича Леща. Ему вообще завидовали: и его таланту ученого, и тому, что он «выгодно женат» на профессорской дочке. Был он, что называется, не сахар. Мне — не нравился даже чисто внешне (сутулый, маленький, горбоносый, вечно хихикающий; вдобавок, в отличие от Рубеля и Шнеерсона, он курил), особенно же стал неприятен после появления сплетен о его командировочных служебных романах. Наступление на Леща шло, кажется, не по этой, а по научно-производственной линии; а может — по совокупности. В стенной газете появилась заметка под названием Лицо руководителя. Там же и стихи были, и с изюминкой:
|
Не нам вас улещивать, товарищ Лещ! Автоклав — не игрушка, а серьезная вещь, и т.п. |
Что-то он там не досмотрел, этот руководитель из евреев, проявил халатность, да еще надерзил кому-то. Обвинителем выступал парторг. Вникать в дело я не стал. Что осуждение несправедливо, и так было ясно. Как-то, оказавшись перед газетой, когда в коридоре никого не было, я дрожащей рукой вывел под названием заметки Лицо руководителя печатными буквами: «И харя партийного деятеля». Чудом это сошло мне с рук. Вычислить меня было нетрудно. У меня было впечатление, что кто-то знал о моей проделке; но если знал, то смолчал, не выдал; спасибо ему. «Предыдущий номер газеты был испорчен хулиганом», значилось в следующем выпуске, — то есть делу не стали придавать политической окраски, а мне пощечину отвесили; такой формулировкой я был задет не на шутку. Что ж, партком поступил справедливо; я вовсе не был диссидентом (и слова этого не знал). Советская власть оставалась своей, правильной, только люди встречались плохие, да болото расселось.
Партийные вожди в Гипроникеле были из работавших, не освобожденные. Еще до меня, когда Лещ только поступил «на установку», его разыграли. Сказали: у нас принято представляться парторгу — и целой толпой проводили к тому в лабораторию, чтобы не пропустить забавную сцену. Легко вообразить, что там разыгралось. Фамилия парторга была Окунь.
Кроме меня еще двое из пятерых мальчишек, ездивших в 1956 году в Булдури, работали в начале 1960-х лаборантами «на установке». Плуксне так и остался там, никуда поступать не стал. Ося Оставшевский оказался серьезным мальчиком, молчаливым, умным. Отработав два года, поступил на физический факультет университета и, похоже, сделал нормальную профессорскую карьеру. Я в 1963 году поступил на физ-мех Политехнического института.
Человеческая память коротка. В ноябре 2007 года интернет (наша коллективная память) вовсе не знал Игоря Юрьевича Леща, слывшего талантом; дал одно упоминание о Вольфе Лазаревиче Хейфеце, слывшем гением, и одно — о незаурядном шахматисте Игоре Григорьевиче Рубеле.
Вечернюю школу я окончил на все пятерки, но с серебряной медалью. Почему не дали золотую? Классная руководительница Людмила Ивановна, учительница русского языка и литературы, любила меня за хороший слог, стихотворные опыты и золотистые вьющиеся волосы, но знала, что пишу я с грамматическими ошибками. Что таковых не оказалось в выпускном сочинении, могло быть случайностью. Сейчас я эту случайность рассматриваю как характеристическую: я научился сдавать экзамены, сжиматься в комок, сосредоточиваться на главном, на короткий период отстранять все интересы и потребности. Готовился я к выпускным экзаменам свирепо. Это фокусирование всех отпущенных сил давалась мне тяжело из-за врожденной гиперактивности и неусидчивости, но ставка в 1963 году была так велика, что оплошность могла испортить всю жизнь; а дальше — дальше это вошло в привычку; навык уже имелся; во время студенческих сессий, прогуляв напропалую семестр, я сидел ночи напролет, глотал, чтоб не уснуть, кофеин в ампулах — и сдавал на повышенную стипендию… Людмила Ивановна, добрый человек, еще и потому не решилась выставить мое сочинение на золотую медаль, что сама толком не знала, каковы — помимо грамотности — должны быть достоинства золотого сочинения. Медалистов у нее отродясь не бывало.
Что я поступаю в Политехнический институт, было само собою разумеющимся: он находился в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Ездить каждый день в другой конец города казалось мне делом немыслимым. Сейчас для меня несомненно: никогда бы не смог я прилично учиться, если б тратил два часа в день на дорогу туда и обратно. Тогда — эта мысль всплывала из подсознанья в совсем ином виде; я сознавал, что я лентяй; был же не столько лентяем, сколько человеком крайне неорганизованным, импульсивным и непредсказуемым, с шальными, неупорядоченными интересами.
Университет, тем самым, отметался. Он был далеко, на Васильевском острове. Отметался еще и потому, что конкурс там был выше, стало быть, и шанс срыва возрастал; я мог не пройти даже с моим «производственным стажем», дававшим фору. И еще потому, что «евреев не брали». Незачем говорить, что по паспорту я был русским, но фамилия и отчество выдавали меня с головой.
Действительно ли евреев не брали? И да, и нет. Отношение к евреям колебалось от года к году, от факультета к факультету, даже — от человека к человеку. Среди экзаменаторов попадались совестливые, среди абитуриентов — необычайно одаренные, с талантом столь наглядным, что приходилось уступать. Наконец, любая система дает ошибки и сбои. Несомненно, что конкурс для евреев всегда (хоть и негласно) был отдельный. Несомненно и другое: на моем курсе физ-меха в числе самых способных студентов оказались в итоге те, кто не прошел на физфак (в университете вступительные экзамены начинались на месяц раньше, и неудачники, не взятые там, успевали тут). В 1963 на физфак — «не брали», а на университетский мат-мех «брали» и на физ-мех Политехнического — тоже. Таков был слух, и косвенно он подтверждался.
Почему я даже в мыслях не держал факультеты исторический и филологический? Интерес к истории у меня был нешуточный. Я обожал Элладу и Рим, знал греческий алфавит, к семнадцати годам заучил все латинские высказывания, найденные у Гюго и других авторов (но без всякого квамперфектума). Ни у кого из моих сверстников не встречал я ни такого интереса к древности, ни даже таких знаний (на деле скудных). Первыми шли причины число прагматические: во-первых, с этих двух факультетов брали в армию, а после окончания маячила должность школьного учителя, одна мысль о которой леденила душу. Во-вторых, конкурс туда был высок и, значит, вероятность срыва высока, а ведь прямых лингвистических способностей я не обнаружил; даже школьный английский был для меня мукой. Не стихи же и не владение словом, обнаруженное в школьных сочинениях, откроют мне туда дорогу? Мысль сделаться профессиональным писателем вообще лежала за пределами всякого обсуждения; было ясно, что не дадут. В-третьих — мои гуманитарные интересы наталкивались на категорический протест семьи, не лишенный убедительности. Как мальчишке возражать взрослым? У матери была присказка:
— Дважды два всегда будет четыре, а в гуманитарных предметах всё от партийной установки зависит.
И я соглашался. Крайний идеализм преспокойно уживается в ребенке с конформизмом, тоже крайним, который питается страхом перед взрослым миром. Могла ли мать думать, что я не то что против партийной установки, а и против партии попру — и как раз в том возрасте, когда нормальные люди обычно остепеняются, смиряются, становятся конформистами? Окажись я с юности в гуманитарной среде, разрыв столь резкий мог бы не случиться. А тут я разом отмел всё чужое.
Была при выборе пути и причина другого порядка: потребность испытать себя в том, что считалось самым трудным и почетным: в физике и математике. Считалось, что ум требуется именно в этих областях, забирающих всё лучшее в каждом поколении. Гипертрофированных способностей я в точных науках не обнаружил, но пятерки получал легко. Как раз вот и хотелось понять, есть ли у меня к этому хоть какой-нибудь дар, сильно ли я хуже тех, кто становится настоящими физиками и математиками.
Еще была химия. В школе на минуту она выдвинулась у меня на первое место. Может, и удержалась бы, не будь мой последний преподаватель химии антисемитом. Родители ухватились за химию; она открывала дорогу в Гипроникель; по части химии там уже состояла моя сестра, а отец, хоть и не был химиком, но зато работал в институте со дня его основания, хорошо знал директора и должность занимал уважительную: был главным специалистом по автоматике. Он, впрочем, держался в стороне от этой направленной на меня семейной стратегии, да и вообще меня не воспитывал. Рупором семейного мнения выступила мать. Она настаивала, что я должен идти в Политехнический институт на гидрометаллургический факультет. Но здесь я уперся. Протекции не хотел. Верил в свои силы — и подал заявление на физико-механический.
Вступительные экзамены я сдал посредственно: две пятерки и две четверки (за сочинение и по письменной математике, где единственная ошибка была обидной, арифметической, допущенной по невнимательности уже после преодоления принципиальной трудности задачи). Система приема была в тот год 40-балльной; из аттестата у меня шли полных двадцать баллов, итого 38; я проходил даже без «производственного стажа», а с ним и подавно, но с обидой долго не мог справиться.
С поступившими проводили собеседование. Мы выстроились в очередь к одной из малых аудиторий на втором этаже главного здания.
— Скажите, Юрий Иосифович… — уважительно обратился ко мне декан физ-меха, заведующий кафедрой теоретической механики Георгий Иустинович Джанелидзе (сын знаменитого хирурга). Дивный момент! Понравился мне Джанелидзе сверх всякой меры: седой, улыбчивый, добрый. Показался — стариком, мудрым стариком. А было ему тогда неполных сорок семь лет. Что уж я там ему сказал? О чем он спрашивал? Может, будущего ученика и коллегу во мне прозревал? О будущем ведь думал. Молодой продвинутый ученый, связанный как раз с той кафедрой — с «кафедрой Лурье», кафедрой механики и процессов управления, — на которую я поступил… Ни видеть его, ни говорить с ним мне больше не довелось. Он умер через шесть месяцев, в январе 1964 года.
Затем были собрания по кафедрам и специальностям. В тесную комнату набилось человек тридцать. Пришел доктор технических наук Анатолий Аркадьевич Первозванский. Еще одно потрясение! На вид ему нельзя было дать тридцати (на деле было — 31). Так вот какие передо мною перспективы открываются! Вот что это за факультет, вот что за кафедра!
Говорил Первозванский, как и подобает молодому блистательному профессору (профессором стал на следующий год, в 1964-м): с дивной уверенностью, завораживающим языком. Одно это «вообще говоря» чего стоило! Потом я обнаружил источник этого выражения: курс дифференциального и интегрального исчисления Фихтенгольца, трехтомник, во многом определивший мой литературный стиль, если не стиль жизни. Говорил Первозванский вещи, не совсем воодушевлявшие: не столько о теории, сколько о расчетах. Мелом на доске нарисовал горизонтальный цилиндр, а под ним у концов — две подпорки.
— Если ракету вот так положить, она, вообще говоря, сломается, — сказал он.
Мне стало грустно. Железа не хотелось до слез, хотелось высокой и красивой теории. Но всё же, сказал я себе, ракета — дело серьезное, государственное. Мы космос осваиваем. Меня, носителя нужной профессии, будут ценить. А главное — я ведь тоже буду молодым профессором. Докажу, что я не глупее Первозванского. Получу ту же власть над восхищенными душами молодых, какою он обладает.
Догадался ли я, что Первозванский — из евреев? Нет, в этом направлении мысль у меня не работала; не это было важно; да и внешность его, странным образом, указывала скорее на монголоидную примесь. Типичных ашкиназийских черт, вовсе не любезных моему сердцу, я в нем не увидел. Однако ж с первых дней в институте я инстинктивно почувствовал: здесь — впервые в жизни — я могу не стыдиться своего не совсем пристойного происхождения.
Единственную в моей жизни тройку я получил на первом курсе, по химии. Читал нам профессор Владимир Петрович Шишокин, старик. Сдавать я тоже ему пошел. Дело происходило в аудитории № 52, главной в химическом корпусе, где мы и его лекции слушали. Этот громадный амфитеатр казался в большей мере храмом науки, чем подобные ему аудитории главного здания: он весь был пропитан прошлым, традицией; в нем был демонстрационный стол, на котором некогда ставили опыты… Чувствовал я себя на экзамене уверенно, но на одном вопросе споткнулся. Шишокин велел характеризовать какую-то зависимость. Формулу я помнил, зависимость была гиперболическая; гиперболу я и нарисовал, но она была с подвохом: изображала только часть процесса.
— Физику и математику учат, — буркнул Шишокин, открыв в мою зачетку с пятерками по этим предметам, — а химию не хотят. — И влепил тройку; а мне, я был убежден, полагалась четверка. Я отомстил в духе гипроникелевской выходки — хулиганским образом. Через весь главный корпус (ниже первого этажа) шел коридор с досками для объявлений. На одной из досок я вывел мелом: «Не находил ли кто в аудитории 52 или около совесть профессора Шишокина?» Надпись стерли только на следующий день. Вообще на этих досках можно было разное прочесть; например такое: Rolling Stones — без комментариев. Эту надпись тоже стирали, но она неизменно вновь появлялась. Вдохните глубже: я не знал, что она означает. Я и про Битлов даже краем уха не слышал — до такой степени был равнодушен к поп-музыке и эстраде; а на дворе стоял 1964 год.
Было и другое хулиганство, более рискованное. Стенную газету физ-меха из разу в раз готовили два шалопая из студенческого общежития на Лесном 65: Ильенков и Шифрин. У меня просили для газеты стихов — и тем вовлекли в дело. В отведенной для нас комнате во втором учебном корпусе мы, случалось, проводили целые вечера — и почему-то больше хохотали без умолку, чем работали (заметьте: без капли алкоголя). Над чем смеялись? Над собой тоже, да, но, в общем, оттого смеялись, что были молоды. Громадные куски ватмана были расстелены на полу. Над ними ползали с красками и тушью одна-две девочки. Ильенков и Шифрин тоже рисовали и сочиняли. Фломастеров в ту пору не было; писали широкими плакатными перьями, которые и в черчении использовались, зато уж аккуратно писали. Какая-то девочка честно выводила гениальные строки из моей поэмы Осень в Карфагене:
|
Мы косвенны, как мухи на стекле. Любой ответ содержится в вопросе. И нет проблем. И есть на всей земле для всех систем одно решенье: осень… |
— а я страдал от мысли, что надо бы запятую убрать и строчки иначе расположить, но не поправлял, уважая ее труд.
К советским праздникам газета, естественно, украшалась по краям рисованными красными знаменами — и один раз эти остроумцы прошили ватман по краям белыми нитками, как раз через знамена. Название у газеты тоже было какое-то ерническое, сумасшедшее, в духе Хармса (которого мы тогда не знали). Газету снял партком, но никто не пострадал, и даже выпуск газеты не отдали в другие руки. А в 1967 году, как раз после Шестидневной войны, стенная газета физ-меха вышла с моими, хм, сионистскими стишками… Что за вожжа мне под хвост попала? Ни на минуту я не был сионистом. Не иначе как Фейхтвангер попутал.
|
— Мама, я поеду в Иудею! — Брось свою нелепую идею! Там война на море и на суше, Вся страна в огне, и храм разрушен, Реки изошли болотной тиной, По дорогам скачут сарацины, По пустым дворам собаки лают, Весь в крови лежит Йерушалаим, Ах и ой! Куда ты взгляд ни кинешь — Попраны законы и святыни, Ум и совесть не имеют весу… Поезжай-ка лучше ты в Одессу. |
(Здесь Ах и ой — из Фейхтвангера, это уж точно; на иврите говорят ой-ва-вой.)
Вообразите: и это сошло! Никуда меня не таскали, никто слова не сказал; Ильенкова с Шифриным не тронули, только газету, по обыкновению, снял партком. Вегетарианская эпоха. А за двенадцать лет до этого человек из другого ленинградского вуза сел на порядочный срок (и, по слухам, погиб в лагере) за такую вот шутку:
|
Дайте мне женщину белую-белую — Я на ней синюю линию сделаю. Дайте мне женщину синюю-синюю — Я на ней белую сделаю линию. |
Самым обаятельным лектором в моей жизни был Михаил Захарович Коловский. Сейчас допускаю, что он же был и самым крупным ученым нашей кафедры в конце 1960-х. Тогда это трудно было заподозрить в скромном, улыбчивом и не совсем молодом доценте — рядом с молодыми докторами Челпановым, Катковником и Полуэктовым, рядом с Первозванским, который казался человеком нобелевского или около-нобелевского масштаба. В сущности, я даже недоумевал: как это Коловский — не профессор? Умен он был, что называется, наглядно… да что там: казался умнее всех; облик имел самый профессорский, — но был хром, и я как-то для себя решил, что болезнь помешала ему сделать блестящую научную карьеру. Позже я навел справки и ахнул. Карьера Коловского оказалась более чем блестящей (даже более чем карьерой: он оказался ученым мирового масштаба). Но становление его протекало медленно; кандидатскую он защитил в 35 лет (я свою написал в 28, защитил в 32); к высокой математике пришел от низкого железа, от машин. Я был почти влюблен в Коловского. Что мне помешало попроситься к нему, выбрать его руководителем, когда дошло до диплома? Вот это и помешало: железо, машины. Шестеренки внушали мне астральный ужас; слово инженер пахло керосином. Чтобы понять, как далеко простиралась моя ненависть к машинам, скажу, что автомобиль так и остался для меня мерзостью, а не «средством передвижения». Никогда я не мечтал сесть за руль.
На пятом курсе мне пришлось слушать лекции Первозванского. Что именно он читал, напрочь вылетело у меня из головы (как и вообще вся наука). Мерещатся какие-то стохастические процессы, дифференциально-интегральные уравнения. Экзамен я сдавал ему досрочно. Комната на кафедре плохо соответствовала предмету разговора, очень теоретическому: рядом был чуть ли не станок, и я совершенно не понимал, что он делает на нашей кафедре. Я рассказал всё, что надо; начались дополнительные вопросы. Всё шло гладко, пока Первозванский не предложил мне написать передаточную функцию какого-то процесса. Пропотев положенные минуты, я сдался.
— Пятерку я вам поставлю, — сказал Первозванский, — но вы — не то, что мне о вас говорили. Я и сам не могу написать эту передаточную функцию.
Каков, однако ж, профессор! Хотел, выходит, чтобы студент прямо на экзамене решил научную проблему. Или, может быть, хотел услышать доказательство того, что она, эта проблема, неразрешима. Высоко же он меня ставил. А кто и что мог ему говорить обо мне, этого я так и не выяснил. Не иначе как отец одной из девушек, за которыми я ухаживал, тоже профессор. Не ясно только, кто именно. В моем хороводе профессорских дочек было несколько.
Студент тоже был хорош: ему требовалась только пятерка — и шальное, опьяняющее, нет, окрыляющее, совершенно непередаваемое чувство, неизменно охватывавшее меня после удачно сданного экзамена. Хотелось солнца, движения, свободы, стихов, а совсем не науки с ее передаточными функциями. Хотелось спихнуть — и колесом пройтись. Я-то хром не был. В волейбол играл за институтскую команду.
Отчего я выбрал «кафедру Лурье»? У нее была репутация лучшей на факультете (видно, по числу людей со степенями), притом, что и у факультета была солидная репутация. Вся новая российская и советская физика началась здесь, в этих стенах. Конечно, в мое время физ-мех был уже не тот, что во времена Александра Фридмана, поправившего Эйнштейна, или при Якове Ильиче Френкеле. Главное — отпочковалось, ушло вместе с деньгами в университет и, главным образом, в Москву. Остались рожки да ножки. Но и того не скрою, что в моем выборе факультета фамилия Лурье, необычайно распространенная, а мне встретившаяся впервые (и показавшаяся не еврейской, а французской), заворожила меня. Культурные ассоциации всегда перешибали у меня разумные соображения. Жаль, тогда я этого не понимал.
Откуда взялась эта фамилия? Не в России, а вообще? Десятилетия спустя я задался этим вопросом и разглядел любопытные вещи. Эллинист Соломон Яковлевич Лурье (двоюродный брат «моего Лурье») возводил ее к античности, к древнему Египту (толстенную книгу этого Лурье, Демокрит, где 80% текста — на языке эллинов, я держал на полке в тщетной надежде когда-нибудь прочесть). Другие видели в ней название городка в северной Италии. Известны разные написания: Lauria, Loorie, Lorea, Loria, Lorie, Louria, Lourie, Luria, Lurie, Lurye. Первые упоминания фамилии документированы во Франции, Испании, Италии и Северной Африке в X-XIII веках. Генеалогическое древо прослеживается во всяком случае на 25 поколений. Его связывают с талмудистом Раши (рабби Шломо Ицхаки, 1040-1105). Самые знаменитые носители фамилии — польский талмудист рабби Шломо бен-Иехиэль Лурия (1510-1573), он же Рашаль или Махарашаль, и палестинский каббалист Ицхак бен-Шломо Ашкенази Лурия (1534-1772). А вот имена, которые ближе к нам:
— советский еврейский писатель Ноах (Ноях Гершелевич) Лурье (1885-60);
— советский физик и механик-теоретик Анатолий Исаакович Лурье (1901-80), «мой Лурье», член-корр; и его двоюродный брат,
— Соломон Яковлевич Лурья, античник, филолог-эллинист, мировую известность получивший как Salomo Luria (печатался за границей в основном по-немецки и по-итальянски);
— советский нейропсихолог Александр Романович Лурия (1902-77), академик;
— советский еврейский писатель Нотэ (Натан Михайлович) Лурье (1906-87);
— американец Сальвадор-Эдвард Луриа (1912-91, генетик и микробиолог, нобелевский лауреат).
Перечисленных знают общие энциклопедии на русском языке и еврейские энциклопедии. Русские энциклопедии многих не помнят. Например, Большой энциклопедический словарь забыл эллиниста Соломона Яковлевича Лурье и русского, а затем американского композитора Артура Лурье (1892-1966), приятельствовавшего с Ахматовой (а меня, болезного, словарь по ошибке знает — и я знаю, откуда эта ошибка: в начале 1990-х в России ждали, что эмигранты вот сейчас приедут и будут править если не страной, так культурой; ну, и включили в электронную версию БЭС многих, кто ни сном ни духом туда бы не попал при других обстоятельствах).
Британника, ни про одного из русских и советских Лурье не слыхивавшая (зато она знает птичку lourie, по-русски турако, или бананоед), расширяет наш список всего одним именем — американской писательницы Алисон Лурье (р. 1926). О других западных носителях этой фамилии рассказывает книга Нила Розенстайна (Neil Rosenstein) The Lurie Legacy: The House of Davidic Royal Descent. Как видим из названия, Лурье метят высоко: возводят свой род к самому царю Давиду.
Лекций «моего» Лурье мне на физ-мехе слушать не довелось. Видел я его мельком несколько раз, был потрясен его подписью (никакой закорючки, просто Лурье — и всё), перемолвился с ним только однажды, во время защиты моей дипломной работы. Выслушав мою белиберду (про динамику биологических популяций в разностных уравнениях), Анатолий Исаакович (он был одним из членов комиссии) спросил:
— Удалось ли вам что-нибудь посчитать?
На что дурак гордо ответил:
— Моя работа — чисто теоретическая.
Действительно, изложение было построено в форме теорем и доказательств. Кажется, Лурье поморщился в ответ на мои слова; во всяком случае, я-теперешний поморщился бы; но пятерку мне поставили.
А посчитать — очень даже можно было. Уж не помню, как судьба вывела меня в эти дипломные дни на Любу Назвич, соседку по Пердеку, заметно старше меня, которая, оказалось, работала в «рыбном институте». Рыбы как раз годились для моей разностной теории, но я боялся, что теория померкнет от расчетов. Люба, добрая душа, и работу мне предложила; то есть не место, а похлопотать о месте. И то, и другое я гордо отстранил. Смешно вспоминать…
Не сказать, чтоб среди моих однокашников преобладали евреи, но они были очень заметны; сюрпризом явилось обилие людей «моего племени», полукровок. Иных и заподозрить никто не мог до самого распределения, когда этот параметр вдруг стал решающим. Взять хоть Милу Воронову, милую Милу, оправдывавшую свое имя. Я только в Израиле обнаружил, что этот тип лица очень распространен у евреев. Помню Альберта Савулькина и Альберта Фридмана; первый недоучился, не выдержал наших нагрузок, ушел на более легкие хлеба; второй рано умер. Помню «бундовцев» (как я их называл, не чуя в этом бестактности, граничащей с доносом): Игоря Бейлина, Борю Альтшулера и Толю Симунина. Помню Володю Наймарка и Сашу Полевого, с которыми приятельствовал; а из девочек — Таню Черняк. Лучшим студентом, безусловно лучшим (разве что Слава Смирнов мог с ним соперничать), был в нашей группе Володя Меркин. В других группах и курсом моложе — примерно тот же расклад: Ася Ханукаева, Марина Вятскина, Миша Улицкий, Инна Шкловская и фаланга полукровок… Никакого специального родственного влечения к евреям я не испытывал. Или — испытывал, да не сознавал? Вопрос на засыпку. Потом, спустя десятилетия, оглянулся и с некоторым удивлением констатировал прямо анапестами Бориса Чичибабина: «все близкие люди мои — поголовно евреи». Но на сознательном уровне я зов предков отвергал, сколько было сил. Искал родства душ, родства интересов.
Прошлое всегда сводится к эпизодам, между которыми словно бы ничего и не было — световые года пустоты. Эпизоды — для людей с моей психической организацией — опорные столбы миросозерцания. Вот один из них — один из ключевых за все годы моего студенчества. Второй курс. Перерыв между лекциями. Я вхожу в большую аудиторию. Дверь узкая, при ней атлантами стоят и, мне казалось, беседуют два человека. В тот момент, когда я оказываюсь в дверном проеме, один говорит другому:
— Хорошо, что их у нас мало.
Я понял не в первый момент. Когда почуял неладное, думал сперва, что услышал обрывок разговора, прямо ко мне не обращенный. Потом сообразил, что никакого разговора между атлантами не было, и слова эти предназначались только мне.
Говорил Валерий Парфенов, не из моей группы (лекции на младших курсах читались потоку), старше большинства, высокий, уже оплешивевший и обрюзгший, женатый. Пикантно здесь то, что говорил он это Аркадию С., который, в отличие от меня, был евреем стопроцентным, но с пристойной фамилией и неопределенной внешностью.
С Парфеновым в 1966 году у меня дошло до прямой драки. Дело было в поезде; мы возвращались в Ленинград после месячных летних военных сборов под Оршей. Что именно он тогда отпустил насчет евреев, я не помню. Разнимал нас Володя Наймарк, человек со стальными руками, метавший копье. Характерно, что он меня оттаскивал от Парфенова и урезонивал, как если бы меня счел неправым.
В любом коллективе одни нам нравятся, а другие — нет. Отталкивание, как и влечение, идет неисповедимыми путями и не всегда ищет себе опору в мысли. Не нравится — и точка. Если же мысль всплывает из подсознания, она в своем младенчестве зачастую хватается за первое, что подвернулось; например, за этнос. С Альбертом Израилевичем Савулькиным, нашим старостой, прошедшим армию и, хм, членом партии (как я был поражен, узнав об этом! ведь он свой, рубаха-парень, и так прост), я на первом курсе подружился. К другому Альберту, к Юле Альберту (по паспорту он был, соберитесь с духом, Июля Ушерович Альберт), испытывал неизъяснимое отвращение. Крупный, с писклявым голосом и (мне казалось) всегда с заискивающей улыбкой на губах, с бедной, интонационно неправильной русской речью (потому что правильной мне казалась речь ленинградцев моего круга), он, человек, по всем прочим признакам, вероятно, достойный, был мне противен — и всё тут. Однако ж если быть совсем честным, то — нет, не всё. На дне сознания шевелилась пакостная мысль в обличье шутки: можно быть евреем, но не до такой же степени! Еврей, вполне вышедший из еврейства, отряхнувший (как велит Интернационал) его прах со своих ног, приобщившийся русской, а через нее и мировой культуры, — такой еврей отторжения не вызывал. Еврей, держащийся за что-то специфически еврейское, необщее, или хоть невольно несущий на себе печать местечковости, как Юля Альберт, — раздражал, притом именно как еврей. Было, было это во мне. Задним числом додумав всё это до конца и ужаснувшись, я готов перед Юлей Альбертом извиниться. А передо мной пусть извинятся те, кто меня воспитывал, начиная с советской власти.
Но это только полдела. Теперь, в свете вот этих поздних нравственных прозрений, додумаем до конца и мою коллизию с Валерием Парфеновым. Не подлежит сомнению, что во-первых и в главных — я был ему противен. Чем, неважно. Может, тем, что будучи злостным евреем, скрывал свою еврейскую сущность под не совсем еврейской, не характерной внешностью; маскировался. Или тем, что мальчишился не по возрасту; или стихами; или врожденной, неискоренимой бестактностью и заносчивостью; чего гадать? Я уже тем был ему противен, что он был мне противен. Повод более чем достаточный. Не чувствовать он не мог. И вот ему (в точности как мне) приходила на помощь эта мерзость в обличье мысли. Из-за чего же я полез драться с ним? Его высказывание, направленное против евреев вообще, на деле было направлено против меня и задело меня (а не присутствовавшего тут же Наймарка, у которого броня была крепче). Смешно: антисемит полез драться с антисемитом за то, что тот назвал евреев плохими. А Наймарк, еврей настоящий, не полез, хотя мог одним ударом уложить каждого из нас, а пожалуй — и обоих.
|
Наливши квасу в нашатырь толченый, С полученной молекулой не может справиться ученый. |
«Не хочу железа» — вот что я твердо знал и в школе, и в институте. Железо — мертвечина, люди при железе — идолопоклонники, фетишизирующие нечто большое и бездушное. Не хочу и электрических проводов. Когда мне было пять, отец, инженер-электрик, принес мне необычную игрушку: электрический моторчик величиной с детский кулак. Думал меня заинтересовать, пробудить инженерный инстинкт, а привело это к нашему размежеванию на всю оставшуюся жизнь; оба поняли, что смотрим в разные стороны. (Когда мне было шесть, он, по моей просьбе, стал на минуту моим первым и единственным секретарем: записывал под мою диктовку мои детские стихи и незло потешался над ними.)
Ратмир Александрович Полуэктов, один из молодых докторов наук «нашей кафедры», ушел в Агрофизический институт: получил там лабораторию, профессорство и даже сделался заместителем директора, а на кафедре продолжал преподавать. Когда дошло до диплома, я попросился к нему. Прилагать математику к биологии — эта перспектива вскружила мне голову. Никакого железа! Даже Физико-технический институт, куда мечтал попасть каждый честолюбивый выпускник физ-меха, перестал быть приманкой, — тем более, что шансов у меня, несмотря на пятерки, а потом и диплом с отличием, не было никаких: фамилия не пускала; я даже и не смотрел в ту сторону. Другая мечта, самая ослепительная, «остаться на кафедре», тоже отметалась как несбыточная — и по той же причине. Конечно, будь я семи пядей во лбу, лазейка бы нашлась; посмотрим правде в глаза: были, были разные возможности; об иных я и не подозревал. Были. Но не было главного, и этого я как раз не понимал: не было у меня не только несомненных, ярко выраженных способностей, которые могли бы поставить меня в особое положение (об этом, положим, я догадывался), — не было стопроцентной целеустремленности, глубокой всепоглощающей заинтересованности. Впоследствии, после отставки большевизма, «на нашей кафедре» стал профессором мой однокашник из параллельной группы, человек как раз моего ученого масштаба и моих, не чрезмерных, способностей, но практичный донельзя, целеустремленности — незаурядной, и с культурным диапазоном в овчинку, что превращало его целеустремленность в лазерный луч. А Володя Меркин, самый одаренный и вполне целеустремленный, но совершенно не честолюбивый, не стал.
Полуэктов был застенчив; неожиданная черта у молодого идущего в гору ученого с амбициями. Это нравилось; я ведь тоже был застенчив, хоть и заносчив, метил в цезари. Обидело меня то, что он согласился быть руководителем моей дипломной работы сразу, не поинтересовавшись моими академическими достижениями, не задав ни единого вопроса. И еще то обидело, что Женьку Л., моего приятеля без высоких поползновений, которого я уговорил встать на тот же путь (попроситься в АФИ к Полуэктову), он взял под свое крыло совершенно так же, как меня, ни о чем не спросив. Уравнял нас, а я-то думал, что я — много лучше!
По оси абсцисс будем откладывать число зайцев (аргумент); по оси ординат — число волков, которые, злыдни, зайцев жрут (функция). Как там у Олейникова?
|
Страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют. Ветер воет на рассвете, волки зайчика жуют! |
(Замечательно! Только зачем он однокоренные слова рифмует?)
Чем больше зайцев, тем больше волков, не так ли? Кривая, а то и прямая с положительной производной. Но в природе дело обстоит сложнее: если зайцев слишком много, число волков начинает падать. Почему? А потому что зажрались. Мускулы не упражняют, болеют от безделья. Когда всё есть, то ничего не надо. Волчат рожать не хочется. У каких народов наблюдается популяционный бум? У бедных. А у богатых (даже у католических) репродуктивный коэффициент в наши дни плавает в пределах от 1,2 до 1,7, притом, что только для поддержания численности он должен быть равен 2,1. Доблесть, волчья и человеческая, тоже начинает убывать по мере увеличения довольства. «Паситесь, мирные народы…» Почему испанские вестготы были в 711 году разбиты горсткой мусульман, маленьким отрядом, посланным на разведку и многократно уступавшим численностью доблестному арианскому воинству из Толедо? По причине высокого благосостояния. Климат был в Андалусии хорош, зайцев — сколько угодно, охоться вволю, а врагов настоящих не было. Потом семь веков потребовалось для Реконкисты. Семь веков — и другой народ.
В осях абсцисс и ординат возникает что-то вроде эллипса, цикл, вытянутый вдоль биссектрисы первого квадранта. Итальянский математик Вито Вольтерра (1860-1940) описал этот цикл двумя нелинейными дифференциальными уравнениями. Еще раньше появилась знаменитая логистическая кривая с насыщением, исправляющая экспоненту Мальтуса. Так возникла математическая биология, точнее, первая ее область: динамика популяций. До России она докатилась с обычным опозданием и в 1969 году казалась новой и перспективной областью.
В феврале 1969 года я защитил дипломную работу, и меня беспрепятственно взяли в лабораторию Полуэктова в АФИ. Служба оказалась продолжением студенческой вольницы: не нужно было вставать рано утром и отсиживать часы; даже появляться в лаборатории можно было не каждый день: работай дома или в библиотеке, только давай результаты… или не давай. Работай — или бездельничай. С молодого специалиста на зарплате в 110 рублей (я числился младшим научным сотрудником) спрос был невелик. Тут и вскрылась моя низменная сущность: с одной стороны, я был увлечен, писал матричные уравнения, строил никчемную, но упоительную теорию (на голом месте); с другой — работал куда меньше, чем следовало бы при действительно серьезном отношении к делу и к своему будущему; хуже того: смотрел в другую сторону, сочинял стихи. К иным людям, великим, взять хоть Гёте, сразу две музы бывали благосклонны, но это явно был не мой случай.
Чтобы понять закоренелого лентяя и повесу, придется и то в соображение взять, что находился Агрофизический институт — хм, по адресу Гражданский проспект 14: ровнехонько против окон моей комнаты, как раз через дорогу. Сыграло ли это обстоятельство свою роль, когда я выбирал место работы и свое будущее? Сыграло. Еще какую. В итоге, как потом стало ясно, отрицательную. Но в свои 23 года я жил под родительским крылом и был сущим мальчишкой, не понимавшим, что будущее нужно завоевывать — и что нужно при этом наступать людям на ноги и работать локтями. Эти соревновательные соображения так и не втемяшились мне в голову; этим качествам — я так и не научился. Соревноваться я хотел только в области мысли, культуры и духа. Был убежден: если сделаю что-то значительное, всё остальное пойдет как по маслу. Люди увидят и оценят. Дожив до седин и залысин, дважды сменив страну и трижды — род занятий, я всё удивлялся (на русской службе Би-Би-Си, о которой доброго слова не скажу) тому, что в человеческой жизни этого, вообще говоря, не происходит. А ведь прочел в 1970-х и заучил стихи Боратынского:
|
Что свет являет? Пир нестройный! Презренный властвует; достойный Поник гонимою главой; Несчастлив добрый, счастлив злой. |
Помнил я и 66-й сонет Шекспира, с которым эти строки полемически перекликаются.
Поначалу всё складывалось как по мановению волшебной палочки: ученые публикации и выступления на конференциях пошли прямо с 1969 года. Одна из публикаций была такова, что я начал о мемориальной доске с моим именем помышлять. Не по научному своему значению она была хороша, нет; в научном отношении это была математическая игрушка, изящная, но не слишком затейливая. Она тем была хороша, что появилась во всесоюзном альманахе Проблемы кибернетики и — под одной обложкой со статьей самого Колмогорова (как раз развивавшего волчье-заячью модель Вито Вольтерры). Какие обольщения! Но и то спросим: кто бы устоял? Кто — из тех, у кого развито воображение? К этой моей работе, изложенной, естественно, в форме определений и теорем и написанной мною (хотя там еще двое соавторов числятся, притом по праву), мои ученые озарения, по большому счету, и свелись; к ней — и еще к одной неопубликованной догадке, тоже очень формальной, осенившей меня в 1980-е годы в другой стране.
В 1969 году, сказал я, меня беспрепятственно взяли в лабораторию Полуэктова в АФИ. Именно так: отдел кадров не охнул, проглотил мою неудобную фамилию и библейское отчество. И — промахнулся. В ту пору бытовал анекдот. Нанимается человек на работу. Кадровик смотрит в документы и размышляет в слух:
— Шапиро, Иван Хаимович… русский… Нет уж, с такой фамилией я лучше еврея возьму, он хоть работать будет.
Это слово в слово про меня. Тот самый случай. Не стал я ученым ни тогда, ни после защиты кандидатской диссертации. Уже в 1970-м ощутил это характерное чувство, как если б под ложечкой сосало: интересно и одновременно скучно. Чтобы перебраться из состояния «скучно» в состояние «интересно», нужно было по временам некоторое усилие над собою сделать, искусственно себя возбуждать. Ровного, неутолимого возбуждения истинного ученого мне отпущено не было.
В лаборатории Полуэктова я оказался представителем национального меньшинства — того самого, очень советского, племени полукровок, к которому, по непроверенной догадке, принадлежал и сам Полуэктов, не случайно бравший евреев с такой охотой. Большинство в лаборатории составляли евреи. Женька Л., мой приятель, писал дипломную работу под руководством Лёвы Гинзбурга, своего сверстника, годом раньше окончившего мат-мех — и уже заканчивавшего кандидатскую. Рядом с Гинзбургом моя гиперактивность могла представляться девической томностью. Энергия в нем била через край, умственная и другая. Не столь энергичный, но еще более одаренный (и постарше, уже кандидат наук) Лёня Фукшанский, ученый милостью божьей, числился в другой лаборатории, но аспирантами руководил в нашей. Дальше — вижу шеренгу юношей и молодых дам с самыми неудобопроизносимыми фамилиями, взять хоть Шарлотту (Лоту) Флятте, а в национальном углу — сиротку Сашу Брежнева, про которого Гинзбург (отвечая на мой бестактный вопрос, умен ли он), тактично заметил:
— Если он что поймет, так это уж крепко.
Боюсь, про меня и этого нельзя было сказать с уверенностью. Моей дипломной работой руководил Полуэктов, вероятно, сразу по достоинству (по недостатку) оценивший мои способности. Моим соавтором в дипломный и последипломный период была Ирина Ефремовна Зубер (если совсем точно — Эврика Эфраимовна Зубер-Яникум, читай: супер-уникум.), оправдывавшая свою фамилию. Выпускница мат-меха, кандидат, старше меня лет на десять, она, по ее словам, каждые пять лет объявляла конкурс на замещение вакантной должности мужа, любила молоденьких мальчиков, и на меня, среди прочих, тоже на минуту положила глаз. Студенткой она чуть не села по громкому диссидентскому процессу, где главной фигурой выступал известный Револьт Пименов. Еще ее отличал редкостный дар: одним движением вырезать из бумаги ножницами необычайно выразительные и даже портретные фигурки-шаржи. После отмирания советской власти у нее и персональные выставки были, имя художника за нею закрепилось; так и писали: «художник, доктор технических наук…». Конечно, по части науки мы с нею были не в одной весовой категории, но страсть была общая: теория матриц, матричные уравнения. Общая настольная книга: Теория матриц Гантмахера (у меня соседствовавшая с Фукидидом). Одна или две общих публикации; но дальше общность не продвинулась. Мне случилось один раз поправить моего более образованного и одаренного соавтора. Как и я, Ира обожала теоретизировать, доказывать нечто в самом общем виде, не унижаясь до конкретных примеров; а я однажды унизился: на трехмерном примере показал, что ее сколь-угодно-мерная теорема неверна, и она некоторое время презирала меня за конструктивистский подход. Моей дружбы Ира искала и после моей женитьбы: через попытки привлечь меня к научной работе, когда для меня речь шла уже не о работе, а просто о физическом выживании в советском раю. Престранные были отношения. Ее тогдашний муж Толя (заметно моложе ее) и моя жена словно бы выносились за скобки. Что ее усилия ни к чему не могут привести, она не понимала.
В Гипроникеле, где наука была прикладная, мелкотравчатая и противная, кандидат наук был редким зверем. Степень выступала как своего рода выслуга лет. К сорока годам и в подобающей должности человек «остепенялся», писал кандидатскую диссертацию, щедро беря материал из общих работ лаборатории; докторская же — казалась делом несбыточным, запредельным (отчасти потому, что никто и в мыслях не мог равняться с Вольфом Хейфецом). В АФИ, учреждении академическом, остепенялись рано, в 27-30 лет, и — сами, через индивидуальные усилия и достижения. Все сколько-нибудь неглупые люди либо уже имели степень, либо работали для ее получения. Была аспирантура, очная и заочная, и было соискательство «без отрыва от производства». В аспирантуру меня не взяли. На первой же открывшейся вакансии оказался Юра Пых, годом или двумя старше меня, выпускник «нашей кафедры», и — со стороны, не из сотрудников АФИ. Я на минуту почувствовал себя обиженным, но почти сразу понял, что зря; вскоре стало ясно, что у Пыха крылья куда как шире; дурака он не валял, быстро сделал кандидатскую под руководством Вадима Ратнера из Новосибирска и сразу принялся за докторскую. Я же в 1969 году записался в соискатели.
Полуэктов, в духе приведенного анекдота, верил, что любой «еврей будет работать», и брал людей совершенно никчемных. Помню Аню Ф., на которой написано было, что она — только женщина, да нет: просто самка с истерическим нравом; но и она числилась научным сотрудником и соискательствовала. Безнадежное впечатление производила еще и Клара Л., для которой, казалось, уже и сроки-то все вышли.
Помимо динамики популяций у нас занимались еще и генетикой, недавней продажной девкой империализма, теперь частично реабилитированной (в значительной степени посмертно). В ту давнюю пору вся генетика держалась на плодовой мушке drosophila melanogaster с десятидневным репродуктивным циклом. Гены слюнной железы мушки можно было в микроскоп видеть. Тимофеев-Ресовский говорил: не будь у нас других доказательств существования Бога, хватило бы и этой слюнной железы. Мне довелось видеть и слушать этого фантастического человека. Из его лекции в актовом зале АФИ я запомнил одно: математиков нужно за фалды удерживать, чтобы они, теоретизируя насчет биологии, не вовсе улетали в бесконечномерное пространство. Остроты Тимофеева-Ресовского передавались из уст в уста. Когда ему представляли молодого ученого из недавних выпускников, он в ходе беседы непременно спрашивал, где тот сидел, а услышав, что не сидел, говорил укоризненно:
— Странно! Такой интеллигентный человек.
Всё было в нем загадочно: и то, что он сделался одним из крупнейших ученых мира в Германии во времена нацизма; и то, что из советского лагеря, обреченного на голодное вымирание, ускользнул в самый последний момент (потребовались специалисты по радиоактивности в биологии); а больше всего то, что он, всё понимавший, угодил в 1945 году в лапы родины, которая на мгновение его обняла, но тут же начала душить.
Дрозофилу разводили в нашей лаборатории под руководством Раисы Львовны Берг, знаменитой ученицы Германа-Джозефа Меллера, три года работавшего в СССР, — и дочери Льва Семеновича Берга, поправившего Дарвина. Под крылом Раисы Львовны «считали мух» биологи Галя Йоффе и Галя Коваль. В соседней комнате теоретизировал будущий муж Гали Йоффе, Гриша Эпельман, настоящий математик, окончивший, однако ж, не мат-мех, а чуть ли не корабелку, — по причинам, которые можно обсуждать, а можно и не обсуждать. Соседство великих, выдающихся и многообещающих будоражило меня. Контраст с Гипроникелем был разительный; на отца и сестру я поглядывал свысока. Верил, что скоро и сам займу подобающее место в лаборатории Полуэктова, — а там, глядишь, и «в науке». Но меня не замечали. В Полуэктова я был влюблен юношеской безответной любовью, а он предпочитал мне других. В фаворитах ходил у него и Саша Гиммельфарб, престранный человек небольшого роста, с тяжелой челюстью, низким наморщенным лбом и дивной самоуверенностью. От него несло такой животной силой, что женщины падали в его объятия, как подкошенные. Не мне одному он казался помесью обезьяны с крокодилом; Фукшанский прозвал его тройным интегралом (тройной интеграл фигурировал в каждой публикации Гимельфарба); и вот к нему-то в лапы Полуэктов меня и отдал, едва только часть, касавшаяся моей дипломной работы и обеспечивавшая мою независимость в первые месяцы в АФИ, оказалась исчерпанной. Конфликты пошли почти с первого дня. Неправы были оба, жаловались Полуэктову оба, а тот брал сторону Гимельфарба. Шаг за шагом я терял интерес к работе, доверие к Полуэктову, веру в себя — и в 1971 году, проработав два года, вовсе ушел из АФИ.
Догадываться, что я — не ученый, я начал на регулярных семинарах в лаборатории Полуэктова. На них выступали с самыми разными учеными докладами, скорее математическими, чем биологическими; выступали обычно люди молодые и очень молодые (из пожилых помню только Абрама Филипповича Чудновского). Сам Полуэктов, Фукшанский, Гинзбург и еще некоторые немедленно схватывали суть дела; я — не успевал; уговаривал себя, что задумаюсь на досуге, но на досуге неизменно перевешивали другие интересы; и, естественно, страдал, чувствуя себя аутсайдером. Втайне надеялся, что за своим письменным столом я окажусь не хуже самых лучших. Дело же было (помимо моей более чем скромной научной одаренности) еще и в том, что я органически не мог работать в коллективе; не мог думать в присутствии других — нельзя же совершать самое интимное на людях?! Мысль — уходила в пятки. Она стеснялась людей; стихи-то на людях не пишутся. Наоборот, наедине она возвращалась и работала сносно. Понял я эту свою беду годы спустя. А поскольку научная одаренность в наши дни именно предполагает умение работать в коллективе, в тесном соавторстве, то этот мой неискоренимый индивидуализм, в сущности, есть всего лишь косвенное проявление того же самого печального факта: что я сел не в свои сани.
Было несколько сладко-кислых моментов. Блистательный и ошеломляющий Лёва Гинзбург предложил мне какое-то уравнение в частных производных, из его популяционных задач, которое он вывел, но сам почему-то решить не мог или не хотел за нехваткой времени. Я провел ночь в выкладках, извелся и бросил, а под утро проснулся с готовым решением, точнее, с идеей искать решение в форме неизвестной функции, умноженной на экспоненту от аргумента. Решение немедленно нашлось. Счастливый и гордый, я кинулся к Гинзбургу. Он и многие другие питомцы Полуэктова находились в тот момент в Павловске, на так называемой летней школе, неформальной конференции, где те, кто постарше, выступают с обзорными докладами, но могут выступать и младшие, и все делятся опытом. Туда съехались из разных мест: из Обнинска, из Новосибирска и Пущина, а устроителями, хозяевами, были на этот раз АФИ и Полуэктов. Я прилетаю на крыльях любви, показываю Гинзбургу решение, и он сразу видит, что оно правильное. Рядом стоит математик из Обнинска, постарше нас, уже оперившийся.
— Так вы, — говорит он, — решали эту задачу методом Лагранжа?
Солнце (а день был солнечный, веселый) разом померкло в моих глазах. Имя торквемады из Обнинска вылетело из моей памяти, но сохранился снимок, где мы стоим (или, пожалуй, идем) рядом. Не хватало мне общей математической культуры. Я переоткрыл велосипед. Был, говорят, местечковый еврей, работавший бухгалтером в начале XX века; он самостоятельно создал дифференциальное исчисление, а когда узнал, что к чему, с собою покончил.
Первый в моей жизни ученый доклад — защита дипломной работы в Политехническом — ознаменовался для меня странностью, которую я осознал как беду только в АФИ. Докладчик обычно рассказывает о том, что знает лучше слушателей; то, над чем он думал, что пропустил через себя. Мне казалось, я вполне и до конца владею моим материалом. Текста я не писал, доклада не репетировал. И что же обнаружилось? Что я теряюсь, путаюсь, забываю, а к вопросам, всегда означающим другой ракурс, вовсе не готов. Там, на защите, меня слушали маститые ученые, кандидаты и доктора наук, даже член-кор (Лурье). Свою робость я объяснял этим. Но в АФИ, на конференции молодых специалистов и полуэктовском семинаре, я выступал перед менее почтенной аудиторией, атмосфера была не столь напряженная, дружественная, неформальная; ответственность была не та, что на защите, — а ситуация повторялась из разу в раз. В чем дело? Увы, в том же. Позже я многократно был свидетелем того, как настоящий ученый веско и спокойно говорит: «не знаю». Но я-то догадывался, что я чужой хлеб ем; что мое увлечение наукой — поветрие, и не был готов кровью платить.
В группе Гимельфарба (он считался руководителем группы) дела шли неважно; и сам он, на словах убедительный, обещавший горы свернуть, научных результатов не показывал (над чем начинали подсмеиваться), и его подчиненные, числом двое или трое, включая меня, не блистали. Мне, среди прочего, было поручено составление какого-то обзора научной литературы; Гиммельфарб говорил Полуэктову, что обзора не будет по причине моей неспособности и лени. Я, однако ж, не вовсе бездельничал; проводил часы в Библиотеке академии наук на Васильевском и в Публичке. Приходилось читать по-английски и вникать в математику, не всегда простую; а тучи тем временем сгущались. К моменту распада группы Гиммельфарба выяснилось, что обзор, который я всё-таки представил, был чуть ли не единственным, что эта группа наработала за год. Так, во всяком случае, бросил мимоходом Лёня Фукшанский, чем очень меня поддержал. Обзор этот я сам отпечатал на машинке и переплел за свой счет — потому что расплевывался с опротивевшим делом. С внутренней стороны обложки, перед первой страницей, вывел: Feci quod potui, feciant meliora potentes (сделал, что мог; кто может, пусть сделает лучше). Дальше работать с Гиммельфарбом отказался наотрез. Возникла ненадолго другая группа, во главе с Ефимом Михайловичем Полещуком (он был у нас в лаборатории едва ли не самым старшим по возрасту; собирался защищать докторскую), куда и я угодил; но тут уж вообще началась сплошная профанация, а не работа, — в духе бытовавшей в ученом мире шутки, мы занимались «некоторыми решениями одной задачи». Конфликт достиг своего пика. Я усиленно искал себе другое место. Конфликт был еще и внутренний: я разуверился не только в себе как в ученом, но и в АФИ, в Полуэктове — и в науке как таковой (не в последнюю очередь потому, что ученые писали чудовищным языком). Когда упоение первых месяцев схлынуло, явилось сознание, что душа тут пищи не найдет. Борьба за места, рутина, а у некоторых — и чиновничья психология, заслоняли от меня горизонты. Я всё чаще спрашивал себя: чего ради?!
С Раисой Львовной Берг в последние (парижские) годы ее жизни я почти подружился; тогда же, в 1970-м, в АФИ, она меня едва замечала — и правильно делала. Заметили ли другие? Какое впечатление я оставил за эти два года, потраченные в основном на борьбу с собою? Мой конфликт с Гиммельфарбом вышел за пределы лаборатории; о нем знали в главном здании. Гера Васильевна Масайтис (кажется, ученый секретарь института; я помню ее только в связи с этими ее словами) сказала как-то, когда другие завели речь о конфликте, что я всегда казался ей более способным, чем Гиммельфарб. Конечно, это похвала с двойным дном. «Способный человек бывает часто глуп, а люди умные как часто неспособны!», восклицает Вяземский; но вряд ли она это имела в виду. Тогда — способными называли даровитых, да и не казался я пробивным. Гера Васильевна не была со мною связана по работе; говорила ли со слов других? Или — «исходя из общего впечатления»? Бог весть.
В 1984 году, после многих лет борьбы и «жизни в отказе», я получил разрешение на эмиграцию. Среди занимавшихся моей судьбой на Западе был британец Пол Коллин. Проездом ко мне (и к другим отказникам) в Ленинграде он побывал в Германии, во Фрайбурге (не могу и не хочу сказать: во Фрейбурге), у профессорствовавшего там Лёни Фукшанского, и привез от него такие вот лестные слова:
— Меня многие просили помочь устроиться на работу в нашем университете, и я всем отказывал. Колкеру — место я обещаю.
Как утешительно это прозвучало для сломленного и отчаявшегося во всем человека! Я и не помышлял о таком; не воспользовался этими словами, не попросил Фукшанского о месте. Потом, нужно полагать, Фукшанский имел случай убедиться, что ошибся на мой счет, переоценил меня. Но он и потом пытался помочь мне, уже израильтянину; подавал со мною общие заявки на гранты, похвалил мою первую и единственную учёную статейку на английском, случайно опубликованную в престижном журнале…
С антисемитизмом в АФИ было хорошо; его не было — во всяком случае, в нашем новом четырехэтажном корпусе, на нашем втором этаже. Да и откуда ему было взяться? Я — впервые в жизни не чувствовал неловкости, произнося или пиша свою фамилию. Над нашим корпусом была воздвигнута надпись слава советской науке! — буквами в человеческий рост, если не больше; по вечерам (я видел это из дома, из моей квартиры) она светилась. Слава была сомнительная; надпись ушла вместе с большевиками. Корпус переоборудован в жилой дом. АФИ ужался в свое историческое здание, в небольшой двухэтажный корпус постройки 1950-х в стиле советского академизма, с архитектурными излишествами.
В 1969-71 годах, на нашем втором этаже, были еще две лаборатории. Одну возглавлял Гарри Иосифович Юзефович, другую — Марк Ланин. У Ланина работал Лёва Шварц, выпускник физ-меха, курсом моложе меня, человек каким-то образом мне не чужой, хоть я и говорил с ним считанное число раз: он знал и, мне казалось, ценил во мне рифмоплета. Были там еще Саша Гаммерман (уехавший потом в Шотландию), Шмуйлович по прозвищу Мышлович (потом жил в Израиле), Малкина, Янгарбер (в числе первых перебрался в США). Компания что надо. Но всё же у меня ёкало сердце, когда из двери напротив моей, из лаборатории Ланина, выскакивала девица вызывающе неславянской наружности и орала на весь коридор:
— Изя, к телефону!
Не стану скрывать: мне было не по себе. Не слишком ли нам тут вольготно? Ведь не потерпят же они; придет день расплаты. И, действительно, к этому всё клонилось. Передавали слова кадровика:
— Ужо разгоню эту синагогу.
Но судьба распорядилась иначе: начался отъезд, и почти все уехали. Даже те уехали, кто и помыслить об этом не мог; взять хоть Вику Дегтяреву, вышедшую замуж за моего приятеля Женьку Л.; или меня, по паспорту и в душе русского…
Маруся, она же Мария Петровна, родом из деревни под Старой Русой, из крепостных в третьем поколении, девчонкой приехала в Питер и нанялась прислугой. Ничего другого предположить нельзя, потому что ничего о ней не известно; даже ее девичьей фамилии никто никогда не произнес. В Питере она вышла замуж за Федора Ивановича Чистякова и в 1913 году родила дочку Валю. Чистяков, из рабочих, большевик-подпольщик со дня основания партии, в 1917 году был солдатом. Когда началось, оказался где надо, пошел в гору по военной линии, выслужил три ромба, знался с Фрунзе; боролся с кулаками; подавлял Ярославское восстание; а в 1928 году оказался в советском торгпредстве в Берлине. Эмигрантские газеты, видно, угождая созвучию, писали: «приехал чекист Чистяков», но чекистом он не был. Из Германии вернулся в 1930 году с неприличным вопросом на устах: «Почему мы-то не можем?!», однако успел в 1935-м умереть своей смертью от туберкулеза.
Пятнадцати лет девочка Валя познакомилась в Берлине с очень высоким кареглазым юношей с несколько неудобным именем Юзя Колкер, студентом электротехнического института в Альтенбурге. Другие юноши из советских тоже носили странные имена и фамилии, взять хоть Ильку Циона; многие за Валей ухаживали, и ей жилось весело. Фокус состоял в том, что выходцев из буржуазных семей в советские высшие учебные заведения не принимали, а ехать учиться за границу им не возбранялось.
Валя была свидетельницей наступления нацизма. На улице людям на спину лепили свастики. На глухих стенах домов, иногда высоко, тоже появлялись нарисованные ночью свастики, аккуратные и очень большие, во всю стену; их тотчас замазывали, но на следующее утро они обнаруживались на прежнем месте. Жизнь кругом была богатая, воровали мало; молоко каждое утро ставили под дверь. Юзя запомнил другое: безработных инженеров, просивших подаяния. (Слово инженер еще звучало гордо.) Сам Юзя сперва получал деньги от отца из Одессы, а когда на такие шалости «из Москвы пришла печать», нанялся в шахту шахтером, проработал год и образование завершил. Илька Цион уехал в Италию, потом в Палестину; из разных мест писал Вале, звал бросить Юзю, но она не послушалась. Юзя вернулся в Россию. В 1931-м они с Валей поженились («записались») в Москве — и отправились в Кузнецк (в ту пору Кузнецкстрой), где Юзя стал работать на прокатном стане. Там у них в 1932 году родилась дочка Ира.
У Юзи (Иосифа) были старшая сестра и младший брат: Роза (Розалия) и Самсон (Шимшон, Сима). Их отец, Борух Лазаревич, держал в Одессе кожевенное предприятие, не то мастерскую, не то фабрику; после НЭПа служил кассиром или бухгалтером и был убит в 1928 году в Ташкенте (думали, что при нем денег много). Жену Боруха звали Евгенией Давидовной (в девичестве Циммерман); дата ее смерти неизвестна. Розалия была так хороша, что люди на улицах провожали ее взглядом, а то и останавливались. Она умерла нестарой, оставив в Ростове-на-Дону сына Виктора и дочь Лидию; на них линия обрывается. Еще раньше, в трудные времена, муж Розалии, Израиль Анчилевич, талантливый инженер, оказался объектом травли и покончил с собою. Самсон Борисович в юности сперва пошел в пролетарии; это открыло дорогу на рабфак; потом выучился на архитектора и сделал в Москве основательную карьеру; служил в министерстве. Он с женой и дочерью жил в Марьиной Роще, а потом на улице Демьяна Бедного.
В Ленинграде, в 1946 году, четырнадцатилетней Ире приходилось иногда выгуливать новорожденного брата в коляске. В доме 4 по Пердеку (переулку Декабристов) ее и ее семью все знали, а чуть в сторону от дома это производило нехорошее впечатление на прохожих, и девочка плакала. В последующем у нее с братом отношения были переменчивые. Когда мальчик начал входить в возраст, у него, счастливчика, оказались отец (по тем временам редкость), мать, бабуля и сестра, а из дальней родни — тётя Паня (Прасковья), сестра бабули, изредка приезжавшая в гости. Толя, сын тёти Пани, его жена и дети существовали только в ее рассказах и ни разу не материализовались.
Чуть позже обнаружилось, что в Москве есть тётя Лёля, Елена Ивановна Мартынова, сестра деда, вдова летчика. Она жила в Новодевичьем монастыре, в келье, порядочном жилом доме с невероятно толстыми стенами. Отправляясь в командировку в Москву, отец почему-то останавливался у нее, в коммуналке, а не у родного брата, в отдельной квартире. Ни о какой ссоре между братьями слышно не было. Верно: отец был застенчив, необщителен, хоть и не мрачен; говорил: «не хочу стеснять». Верно: тётя Лёля была радушна, но ведь и Евгения Яковлевна (тётя Женя), жена брата, была воплощенное радушие и гостеприимство, Юзю знала с юности и любила. Какая кошка могла пробежать между братьями? Не бедности ли своей отец стыдился? Рядом с тётей Лёлей он был богат. Не знаем и знать не будем. Когда я впервые оказался в Москве, я тоже, по настоятельной рекомендации родителей, остановился у тёти Лёли, а в Марьину Рощу поехал в гости; и дальше так было, после переезда тёти Лёли на Фрунзенскую набережную; а ведь родственники в Марьиной Роще меня уговаривали перебраться к ним. Тётя Женя, которую нельзя было не полюбить, просто не понимала моего упорства — и я, по правде говоря, тоже его не понимал. Может, сейчас пойму?
Мой отец был ассимилятор; хотел (не иначе, как под влиянием Вальтера Ратенау) выйти из еврейства хотя бы в своих детях. Сторонился ли он еврейской среды? Пожалуй. Его единственным другом числился Михаил Самойлович Добрин, но я не вижу Добрина у нас в гостях, хотя гости случались, мать была общительна. Это одно; а другое — уж больно братья, Иосиф и Самсон, были непохожи. В отце напрочь отсутствовали амбиции, он был равнодушен к внешней стороне жизни, в его облике и поведении чудилось нечто монашеское, отрешенное, — как если бы главное в жизни миновало или не удалось. Сима, наоборот, был большой жизнелюб, дорожил своим служебным и общественным положением, своими достижениями. Его манера держаться могла казаться отцу хвастливой, вызывающей. Дальше остается гадать — или взять в качестве лакмусовой бумажки сына.
Не оттого ли мне в Марьиной Роще было неуютно, что «кругом одни евреи»? Стыдно, а приходится так ставить вопрос. Ни отец, ни мать не могли мне привить этого отношения непосредственно, косвенно же, по умолчанию, — очень даже могли. Отец вообще меня не воспитывал; у матери не было и тени бытового антисемитизма; и всё же ответственность возлагаю на них. Моя двоюродная сестра Рита запомнила мою ужасную обмолвку:
— Я своих еврейских родственников не стыжусь.
Утешаю себя мыслью, что сказал это подростком, школьником, и что Рита чуть-чуть сгустила краски; что я сказал: «не сторонюсь»; словечко очень мое. Но проверить нельзя, и приходится брать на себя этот ужас без изъятья — в ритиной версии.
Скажу и другое: тётя Женя была первым в моей жизни человеком, в чьём обществе мне захотелось быть евреем — нет, не так: в чьем обществе я пожалел, что я не еврей. Она была кто угодно, только не мыслитель, и всё же — через неимоверную интенсивность исходившего от нее душевного тепла — умудрилась вызвать у меня образ былой (мне казалось: навсегда утраченной) еврейской семьи, общины и культуры в целом; сладостный образ — и горький, потому что ускользающий.
Рита уродилась в мать; всегда была радушна и открыта; у нас нашлись общие темы; простила (хоть и не забыла) мою дикую мальчишескую фразу. С родной сестрой мне никогда не бывало так легко, как с нею. Но у Риты был муж, Марк Персиц, и про него-то уже прямо в моей семье было сказано, что он ведет себя неправильно. В чем неправильно? А вот всё тянет в сторону еврейства, противопоставляет еврейское — общему, советскому (следовало бы сказать: русскому). Слов я не помню, прозвучало это как-то иначе, мягче; говорила, конечно, мать, но мысль, я думаю, принадлежала отцу, честному, убежденному ассимилятору.
С Марком я потом подружился; человек оказался прекрасный, тоже открытый, да к тому же еще и еврей по призванию: счастливчик!
Хуже всего у меня обстояло с дядей Симой. Он мне почему-то не нравился, и тут уж мои родители были, скорее всего, ни при чем. Портретное сходство с отцом делало его в моих глазах словно бы карикатурой на отца. Ну, и расходились мы с ним по всем пунктам, от мелочей до важного. Он казался мне слишком советским человеком даже в том моем бессмысленном возрасте, когда я и себя искренне считал человеком советским. С годами мы чуть-чуть стали ближе. Один наш разговор состоялся в начале 1980-х, на скамейке перед Петропавловской крепостью. Сима, гостивший в Ленинграде, всё пытался выяснить у меня, как это я решил эмигрировать: как можно порвать со всем этим — и как жить там; ведь там всё чужое. Я отвечал, что отправляюсь от противного (ex adverso; модное в ту пору выраженье среди борцов с режимом, но я на него набрел сам): хуже, чем здесь, быть не может; будь что будет — только не это. Он не понимал, о чем я говорю; как это: «хуже, чем здесь»?! Больше мы не виделись; я уехал, он умер.
Но дядя Сима предстает в моей памяти совсем родным и близким рядом с другой московской родней, в рядах которой иные тоже носили фамилию Колкер. С этими отец вовсе не знался, а меня свело любопытство. Все они мне не понравились. Сейчас думаю, что дело было во мне: я был плох, я им не понравился (и было, отчего), — а тогда не сомневался: плохие — они. Смутно помню насупленных крупных людей, видом высокомерных — как высокомерны бывали только чиновные граждане «столицы всего прогрессивного человечества». На лицах этих мужчин и женщин я читал одно: преобладание сиюминутных интересов, жесткий прагматический подход к жизни. Не исключаю, что на самом деле раздражало меня другое: их равнодушие ко мне. Так или иначе, но никого из них (из старших) я не захотел видеть во второй раз.
Сестренка Нателла Колкер тоже была из них. Мне она приходилась троюродной или восьмиюродной. Появилась внезапно в 1965 году: попросилась в гости и с неделю жила у нас на Гражданке; привезла мне в подарок портфель, о котором я мечтал, а в Ленинграде такой нельзя было достать; матери, кажется, понравилась. Была она старше меня на год, черноволоса, тонка, резва и настырна; училась в МГУ на химическом факультете; только что развелась. «Гордо презирала» всё ленинградское. Про Политехнический, куда я ее по случаю сводил, сказала с вызовом:
— Типичный провинциальный вуз. — Но во мне она столкнулась с ответной гордостью: я ей даже возражать не стал; отыгрался, когда она поинтересовалась, не хочу ли я переехать в Москву: сказал, что и мысли такой не допускаю.
Скорее однофамильцы, чем родня, мы с нею, замечательно контрастировали: еврейка и славянин; хваткая женщина и романтический настроенный «задумчивый проказник» (я в ту пору был безнадежно влюблен), мечтающий о славе поэта и ученого. Этот контраст мне нравился. Чем? Тогда я не знал, а сейчас думаю так: он оттенял мою непричастность к такому еврейству. Именно чтобы продемонстрировать это различие, я привел Нату в свою институтскую компанию, представив как сестренку. Собрались в тот раз на Светлановской площади, в номенклатурном доме № 22 по проспекту Энгельса, у Андрея Чернышева, главного шалуна и плейбоя нашей группы. Вечеринка как вечеринка, с танцами и интеллектуальной болтовней. После застолья Ната подсела к тем, кто играл в карты. Мне там делать было нечего, я мастей не различал. Через какое-то время Андрей подошел ко мне и, хохотнув, сказал:
— Забери сестренку!
Появлялась Ната у нас в Ленинграде не один, а два или даже три раза, всегда ненадолго. В последний приезд спросила прямым текстом:
— А ты мог бы в меня влюбиться?
Дивная непосредственность! Вся натура человеческая — как в капле воды. Что ей требовалось: провинциальный муж в качестве ширмы или запасной любовник в провинции? В Москве, допустим, ее репутация была испорчена; но Москва большая, нашлись бы другие круги — и нашлись же, конечно. Я перебрал несколько вздорных предположений и все отбросил… Единственное, чего никак нельзя было допустить даже при моей самонадеянности, это — что Ната сама в меня хоть капельку влюблена; такие не влюбляются.
Смеяться я над Натой не стал. Сказал ей просто, что влюбиться в нее никогда не смогу. Вообще, был с нею сдержан, хоть сдержанность — не из моих добродетелей. В этом случае она была подсказана гордостью.
Двоюродная сестра отца, Белла Борисовна Циммерман, женщина суровая, фронтовой хирург, прошедший войну, в детстве дважды брала меня с собой в пионерский лагерь завода Красный выборжец, где работала врачом. Она — единственный человек из отцовской родни, изредка приезжавший к нам в гости. Советская она была — до мозга костей; и большая патриотка. О немцах отзывалась пренебрежительно. Судьба сыграла с нею злую шутку: уже очень немолодым человеком она оказалась в эмиграции в Германии, где получила щедрую пенсию — от тех самых немцев, за то, что воевала против немцев.
…Бабуля, Мария Петровна, умерла в 1958 году — и я, мерзавец, не пошел на похороны; даже в больницу к ней, еще живой, ни разу не сходил. Тут не одна жестокость. Я гнал мысли о смерти, не мог смотреть в ту сторону. В каждом мертвом хороним себя — а в детстве каково?.. Я тогда как раз в Спартак записывался по части волейбола.
Остались еще двое: отец и мать. Что сказать о них? Первое и главное: я был плохим сыном. Есть анекдот. Двадцатилетний юноша говорит сверстнику: за последние четыре года мой отец сделал невероятные успехи; когда мне было шестнадцать, он был полным идиотом. Это почти мой случай. Юзя был патологически нечестолюбив, вот главное, что приходит на ум; мне это мешало. Интересовался он только техникой, да и то как-то платонически. Читал, но никогда не говорил о прочитанном. Не уважать его было немыслимо, любить трудно. Кроткий, безобидный человек, всегда ровный; голоса не повысит, не раздражится. Загадочный, решусь сказать, полным отсутствием чего-либо специфического, а вместе с тем — с ясно прочерченной индивидуальностью. Считалось, что мать он обожает, Иру любит, но вообще со всеми он был как-то прохладен, хоть и не угрюм. Семейное предание не донесло сведений о его увлечениях другими женщинами. В Германии, до мамы, была какая-то немка, а потом — ни-ни. Уже после его смерти случай свел меня с женщиной его поколения или чуть моложе, уверявшей, что он за нею ухаживал. Пусть бы и так, но не верилось.
Мне было шесть лет, когда, отправляясь в гости к приятелю, Юзя прихватил меня с собою. Ни жены, ни детей у приятеля не было, но жил он в отдельной квартире. Там всё было старинное: мебель темного дерева с гнутыми ножками, бронзовые статуэтки, вместо абажура — люстра: целый поток хрустальных подвесок. Всё это не вязалось с современностью, отторгалось ею как прошлое: неподвижное, ненужное, несправедливое. И хозяин словно из прошлого века явился: жилет, часы на цепочке, галстук, усы. Может, это был Михаил Самойлович Добрин? Не знаю. О Добрине я, когда подрос, узнал странное: его покойная жена, Берта Абрамовна, была… на тридцать лет старшего его, он был моложе ее сына, а жили они «душа в душу». Есть такие женщины без возраста, обыкновенно маленькие. Берта Абрамовна была маленькая. В юности состояла в партии социалистов-революционеров (эсеров), возила через русскую границу нелегальную литературу. Страшно подумать, кого она могла знать лично. Между прочим, никем никогда не отмечено, что это словечко — эсер — с двойным дном. Его происхождение известно: от сокращения с.-р., но если взять в рассуждение обилие евреев в рядах эсеров, то не покажется вовсе вздором допустить, что принимая кличку-сокращение деятельная часть партии помнила: эсер на иврите — десять. А десять — число неслучайное. В иудаизме десять взрослых мужчин представляют перед Богом весь народ Израиля; это конгрегация, миньян; только молитва десятерых полноценна… Другие заимствования из иврита, пришедшие в русский язык через одесский жаргон, давно установлены и сомнения не вызывают. Хохма на иврите — мудрость; шмоне переводится как восемь, в одесской тюрьме в восемь часов был обыск, отсюда шмон. Можно еще наскрести с десяток. Естественно, было и ответное влияние, очень чувствующееся в современном иврите.
Пока взрослые беседовали, мне в этой удивительной квартире было позволено сесть за пишущую машинку. Отчетливо помню охвативший меня трепет. Машинка была под стать обстановке: старая, покрытая потускневшим чёрным лаком, по которому золотом было выведено иностранное слово. Клавиши металлические, круглые, с жесткими выступающими ободками. При неправильном ударе ободок отпечатывался на подушечке указательного пальца.
С мучениями перепечатав только что сочиненное стихотворение, я не узнал его. Звуки, мне одному известные, на глазах отчуждались и словно бы переходили в вечность. Они освободились от моего шепота, могли быть прочитаны другим, чужим голосом, наполнялись новым, непредусмотренным содержанием.
Хозяин вызвался проводить нас до остановки трамвая. С отцом они были на вы и по имени-отчеству. Разговор вёлся невыносимо уравновешенным тоном и для меня ничего не значил. Моё волнение собеседникам не передалось. Они забыли, как трудно было оторвать меня от машинки. Когда проходили мимо чахлого садика за чугунной оградой, отец, отвечая на вопрос, сказал:
— Я туда не хожу. Придёт время — отвезут.
Кажется, сестру он любил больше, чем меня. Чертами, хоть и не характером, она уродилась в него, внешне была еврейкой, не хотела ею быть и свои черные волосы красила; а я вышел в мать и внешностью, и нравом.
На отце словно тень какая-то лежала; тень печального знания, разочарования. Большего фаталиста я в жизни не встречал. Меня, повторю, он совсем не воспитывал. Когда я нес чушь, только разводил руками и говорил:
— Ну, Юра…
В годы моего студенчества один раз случилось, что у меня к наступлению сессии не хватает конспектов нескольких важных лекций; не было и времени на их переписку; отец вызвался переписать и переписал аккуратным почерком, очень похожим (за вычетом аккуратности) на мой. Математики он толком не знал. Переписывал формулы и уравнения вслепую, но нигде не ошибся.
Я больше знал об отце со слов матери. В годы войны, в эвакуации, когда дело казалось безнадежным, он сказал ей: если немцы возьмут Москву, я от вас уйду; вы с Ирой — русские, вас не тронут. Дело было в Березовске, под Свердловском. Там же его призвали в армию. Он явился с вещмешком и предстал перед комиссией, где среди военных сидел и Шереметьев, директор Гипроникеля. Полковник посмотрел бумаги отца и сказал Шереметьеву:
— Мне он не нужен — и вам его держать не советую.
Почему? Потому что отец учился в Германии. Поразительно! В середине войны с нацистами советский военный в чинах не знает, что еврей, если б и захотел, не мог стать предателем или перебежчиком. И отца отпустили, не взяли. Глупость спасла.
Ни мать, ни отец не были членами партии (может, это уберегло его в те годы, когда каждую ночь ждали ареста), но мать называла себя беспартийной коммунисткой. Пожалуй, и сталинисткой была — от недомыслия, от ложного патриотизма, как, впрочем, и все сталинисты; от нехватки образования. «При Сталине кролики были дешевые»; «Черчилль и Рузвельт вставали, когда Сталин входил» (на Ялтинской конференции) — это я от нее слышал не раз. Легко вообразить, как она принимала мои мальчишеские закидоны, а потом и мой уход в полуподполье.
Ни отец, ни мать не дожили до 70-и. Отец умер в 1976-м, внезапно; упал в десяти метрах от своей парадной. До последнего дня работал в Гипроникеле. Я поехал на Невский 30 забирать его вещи. Очень пожилой господин подвел меня к столу отца, а сам снял телефонную трубку и сказал кому-то с изумительным спокойствием:
— Умер Колкер. — Это соединение слов показалось мне дикостью. — Его недавно фотографировали для доски почета. Нужно, чтобы фотография туда всё-таки попала.
В отцовском столе я нашел то, что меньше всего мог там ожидать: несколько выпусков многотиражки Политехник с моими стихами. Стихов он никогда читал, к моим никогда не обнаружил интереса. Только в день его смерти мне пришла в голову мысль, что он ведь, собственно, был специалистом высокой квалификации.
Внезапная смерть, среди прочего, вызывает еще и такое странное чувство: ты что-то не сказал близкому человеку — и теперь уже никогда не скажешь; о чем-то не спросил — и теперь уже никогда не спросишь. Целый месяц меня душили слезы; больше всего, когда я вспоминал, как он сказал о моей двухлетней Лизе за несколько дней до смерти:
— К такой девочке можно очень привязаться.
Лиза, совсем крошка, потом, случалось, звала его: — Юзя, Юзя! — Всё спрашивала: — Когда Юзя придет?
На похоронах, в крематории, отвечая на какие-то мои слова, Михаил Самойлович Добрин, заметил совершенно спокойно, что не верит в загробную жизнь. Я посмотрел на него, как на идиота.
После смерти отца мать сделала мне странное признание: половая жизнь с отцом всегда была ей в тягость и оборвалась очень давно. В молодости до того доходило, что она о разводе задумывалась, а бабка отговаривала:
— Потерпи. Дело ведь минутное, а Юзя такой хороший человек.
Кто тут был виноват? Оба — или никто. Допускаю, что мать была просто фригидна. Или отец слишком уж принадлежал своему сумасшедшему времени. Их молодость пришлась на годы полного пренебрежения к сущности семейной жизни. Вместе с тем мать говорила, что влюблялась в отца несколько раз в жизни — уже будучи его женой. Темные аллеи…
Когда умер отец, матери было 63 года. Михаил Самойлович навещал ее, и у нее возникло впечатление, что он за нею ухаживает. Она умерла в 1983, шестидесяти девяти с половиной лет, за год до моей эмиграции; умирала долго и мучительно — от водянки, от которой и бабка умерла.
Первый раз я влюбился шести лет отроду, в 1952-м; в тот же год и стихи начал сочинять. Избранницу увидел в поликлинике №30, в доме 6 по Малой Зелениной улице, где в нее (улицу) Глухая Зеленина упирается; мы с матерью, помнится, ездили туда на трамвае №1 до самого кольца, до Барочной улицы. Увидел — и потребовал, чтобы мать меня познакомила. Мать очень не хотела, но ей пришлось уступить. Она потом уверяла, что я лег на пол и начал бить ногами. Возможно ли такое? Избранницу звали Мила. Все три стадии, предусмотренные природой — пылкая влюбленность, обладание и разочарование — были мною пройдены в шестилетнем возрасте, задолго до пробуждения чувственности. Разочарование я переживал очень по-мужски: стыдился своей возлюбленной в компании сверстников-мальчишек (как если бы они могли догадываться о моих чувствах), а они собирались в моей коммуналке перед диковинкой: первым советским телевизором КВН-49 с экраном величиной в ладонь. Ни у кого не было, а у нас был (отец любил технику); приходила и избранница, и я сгорал от стыда и неловкости. Ее образа память не удержала; не знаю, было ли это влечение нашептано генами.
О второй влюбленности уже сказано; тут, повторюсь, предпочтение могло быть инстинктивно расовым, хоть гены меня и подвели. На Петроградской, в 52-й школе, Галя Т., моя Беатриче, не меня предпочитала, а моего приятеля Шурика. Вскрылось это 6 ноября 1956 года, благодаря какой-то обмолвке. Я был раздавлен. Написал стихи:
|
Пусть не будет надежд безнадёжных, Пусть не будет мечтаний пустых. У Фортуны в руках осторожных, Вижу нож в перламутровых ножнах — Ждет он жертв неизбежных своих. (…) |
Десять лет, а я уже готовенькая жертва: чудно. Когда и откуда взялось имя Беатриче? Данта я не читал; читал о нем: что и когда? Бог весть. В 1966 году, на третьем и четвертом курсе, мы с Галей на минуту сделались парой в глазах окружающих, но она опять меня не любила, отвечала на мои ухаживания недоверчиво, да и я, наконец-то познакомившись ближе с вычитанной и выдуманной возлюбленной, растерял романтический пыл… Да-да, получился анапест, словно бы продолжающий выписанные тут детские стихи: растерял романтический пыл. Пусть эта строка их и закроет. Книжная любовь не перешла в настоящую. Слова Гали: «Я их не люблю», послужили для меня в 1966 году скорее поводом для разрыва; причина была в охлаждении. В 1994 году мы опять встретились. Момент был самый классический: в жизни раз бывает сорок восемь лет. Дети уже выращены, внуки еще не появились. Возникает искушение прожить еще одну жизнь. Общие детство и юность накатывают теплой волной, иных и уносят, но мы глупостей не наделали, и фата-моргана рассеялась. Причину давней ссоры не вспоминали и не обсуждали. Была ли Галя антисемиткой? Если да, то не больше, чем я.
В конце 1959 года я оказался в изгнании: на Выборгской стороне, на краю света. Родители получили квартиру на Гражданке. Овидий не сильнее переживал разлуку с Римом, чем я — с Петроградской. Все мои стихи той поры — скорбные элегии. Беатриче тоже была утрачена; в школе мы с нею не дружили, я обожал ее молча, вприглядку; с переходом в новую школу — опустился железный занавес.
В каждом новом коллективе молодой человек инстинктивно выбирает себе пару, даже если его сердце несвободно. Оказавшись в 7-Б 121-й школы, я оглянулся по сторонам и приуныл. Пока я унывал, меня выбрали. На первом для меня уроке математики учитель Михаил Семенович Шифрин, добрый и чудаковатый, не разглядев новую для него фамилию, вызвал меня к доске в родительном падеже, да еще растянув Р и с ударением на втором слоге:
— Колкéрра! —
Испанец, да и только. С первой парты на вторую, к приятельнице, обернулась белобрысая маленькая обезьянка с косичками и с вытаращенными глазами:
— Как?! Как?!
Обезьянку звали Аля Карпова. Ей предстояло несколько потеснить Беатриче в моем сердце — потому что всем нам нравится, когда нас выбирают, даже когда наш собственный выбор мог бы быть другим; и еще потому, что все мы преспокойно можем любить двух, а то и трех (двоих, а то и троих) одновременно: печальная истина! Мне с детства хотелось «одной любви от рождения до смерти», была такая формула. Но теория суха, а древо жизни пышно зеленеет. Да и сам-то Данте Алигьери — разве не руководствовался правилом Саши Черного: модистка для тела, дантистка для души?
Вертушка и хохотушка, Аля обладала некоторой артистичностью, была быстра на слово и легка на ногу. Всю любовную инициативу она взяла на себя — и делала это с милой непосредственностью девочки-бакфиш, в которой женщина еще не проклюнулась. Это и решило дело в ее пользу. Меня раздражали рано повзрослевшие сверстницы. В классе была девочка с библейской фамилией, Наташа Магидей, милая, грациозная, изящная (и не глупее Али), но я и не посмотрел в ее сторону — и как раз потому, что в свои 12 лет она была слишком женственна. Однако ж не знаю, как повернулось бы дело, выбери меня она, а не Аля. Может, мне в голову втемяшилась бы иная логика, иная жизненная философия? Нет, не похоже. Мужчины от роду подразделяются на две большие категории: на хорошистов (им подавай хорошеньких) и на душистов (им подавай душевных). Кажется, эту классификацию Лев Ландау придумал. Я был душистом. С Алей перемежающееся влечение продолжалось у нас лет пятнадцать и даже привело к настоящим приключениям, рассказанным в другом месте; но в целом, к счастью, судьба миловала — меня от нее, ее от меня.
В 1960 году, в литературном кружке при дворце пионеров, меня тоже выбрали, и опять я откликнулся. При дворце существовал литературный клуб с очень буржуазным названием Дерзание. Старостой (!) кружка или клуба состояла Нина Полякова, на год или два старше меня. Внешне она мне совсем не нравилась — вот как раз именно ранней своею зрелостью да полнотой, которой я в девушках не переносил. Но она была литературная дама, с артикулированным словом: словом и взяла. О стихах, о литературе и о моем будущем в литературе — больше говорить было не с кем. Платонический роман длился года два и очень мог стать неплатоническим. Скажи мне кто-нибудь тогда, что Полякова — еврейская фамилия, я бы глаза вытаращил. Нина от еврейства открещивалась.
— Вообрази, за мною ухаживают в основном еврейские мальчики, — говорила она. — Они почему-то думают, что я — еврейка.
Что ж, она могла и не знать (а еврейские мальчики знали). Отца при ней не было, внешность же, как я сейчас понимаю, у нее была самая что ни на есть еврейская. Если эта догадка верна, то мои гены тут молчали, словно воды в рот набравши. Я этой дружбой с поцелуями тяготился. Не помню, как она оборвалась.
В студенческие годы я ухаживал за многими сразу. Были девушки из приличных семей, с папами-профессорами. В одних случаях я мог рассчитывать на взаимность, в других она была опережающей. Блистательная Ира З. не слишком долго владела моим воображением. Мужчина любит глазами, и она была красива, а уж умна, начитана и находчива (в ту пору говорили: остроумна) так, что я точно знал: выше планку не поднять. Я ей нравился. Ее несколько еврейская фамилия дивно отенялась светлыми, почти русыми волосами. Но любовь определяется суммой мелочей, и тут баланс не сходился. Я чувствовал: овладеть ее сердцем вполне мне не удастся. Таких, как я, у нее с десяток. Возможен союз, основанный на взаимном влечении (и громадный трамплин моим честолюбивым планам в науке; ее папа профессорствовал именно там, где надо), но в этом союзе словно бы уже было зарыто зерно разлада и развода. Разве о таком союзе грезит юность? У меня же к этому еще и явная патология примешивалась; в 18 лет я думал, что время уже упущено, потому что настоящую любовь нужно вынести только из раннего детства, когда чувственность еще не проснулась.
Совсем иначе ко мне относилась подружка и бывшая одноклассница Иры З., Лена К.: она была по-настоящему влюблена. Еврейка самая стопроцентная, выраженная, в отличие от Иры — не красавица, внешне она мне была милее Иры. Папа, из местечковых евреев, чуть-чуть увалень (временами до бестактности), тоже профессор, к физике отношения не имел, зато, предположительно, обладал связями самыми обширными; достаточно сказать, что семья зналась с Аркадием Райкиным. Но рядом с Леной была ее мама, и когда я оказывался в их роскошной, прямо-таки невообразимой квартире в самой лучшей части города, выходило, что говорить мне интереснее с мамой, чем с Леной. Маме я нравился (папе — даже слишком), говорили мы часами обо всем на свете, и я никогда не был сыт разговором с нею — с мамой. Об Ире З. (ибо там знали, что я и с нею дружу) мама Ирина Константиновна, отвечая на какой-то мой полувопрос, словно бы невзначай сказала, что та будет «верной женой и добродетельной матерью». Был, значит, в моем полувопросе, которого не помню, невысказанный вопрос о главном — и каков оказался ответ! Лена, а еще больше ее изумительная мама, второй раз в моей жизни вызвали у меня ностальгию по еврейству. Одно слово, чудилось мне, и — я возвращаюсь в лоно этой мощной, обволакивающей традиции. Родители мои, кажется, не возражали. Точнее, что думал отец, я, по обыкновению не знал, а мать — так даже рада была открывавшейся перспективе; слово профессор звучало в ее ушах нежнейшей музыкой. Что помешало? Половинчатая влюбленность — и, странно вымолвить, мысль о протекции и блате, которые с неизбежностью должны были за этим союзом последовать. Конечно, было и нечто прямо противоположное: меня дразнила мысль о попутно открывавшихся возможностях, и дурного тут еще нет. Любовь бывает безоглядна, брак при самой пылкой любви остается сделкой, сделка предполагает расчет. В сделке матримониальной самое любовь берется в расчет, рассматривается как вклад в общее предприятие. А брак по расчету нередко становился браком по любви. История полна примеров. Ближайший даёт Бенджамин Дизраэли, прямо сказавший жене через несколько лет после свадьбы:
— Вы знаете, дорогая, что я женился на вас по расчету. Второй раз я женился бы на вас по любви.
А Даша Дьякова? Она была влюблена в Державина, когда тот сделал ей предложение, но потребовала его приходно-расходные книги и держала их две недели прежде чем дать согласие.
Наконец, и традиционную мудрость не вовсе отметем с порога. До самой эпохи романтизма брак по любви представлялся многим народам делом безнравственным — потому что сиюминутное противопоставлялось долговременному, а у христиан — и вечному. Пару молодым людям подбирали родители. Умные родители учитывали симпатии и антипатии сына или дочери, но все, старшие и младшие, дружно думали в первую очередь о будущем, вкладывали в будущее. Что ж тут дурного?
Я же всего хотел добиться сам. Всего! Установка очень романтическая. Спрашивается, зачем я продолжал ходить в этот дом, не имея «серьезных намерений»? Но я продолжал. Длилось это года два или три, с затуханием. Папа, рубаха-парень, думавший, что дело у нас с Леной продвигается семимильными шагами, однажды подарил мне галстук со своего плеча, и как раз после того, как я сказал, что галстуков не ношу. Неловкость этого жеста почувствовали даже его домочадцы, вообще, кажется несколько стеснявшиеся его провинциальности… Всё завершилось наилучшим образом. Потом Лена вышла замуж за моего однокашника и приятеля. Не я их познакомил, но и без меня они бы не познакомились. Пара получилась что надо. Занятно, что этот приятель, в студенчестве считавший себя сердцеедом, «очень поживший», говоря словами Толстого, или, во всяком случае, любивший намекнуть на это (о пляжном отдыхе он как-то сказал: «у нас всегда были лучшие девушки»), подсмеивался надо мною, когда я ухаживал за Леной: она, мол, не женщина. Здесь он был неправ. Лена была очень женственна; по мне — слишком женственна.
Быть евреем — призвание… Призвание в очередной раз поманило меня и отступило, отпустило.
А в 1970 году — случилось так, что я ударил женщину; первый и единственный раз в жизни. Что уж такое она сказала о евреях, что я шлепнул ее по щеке? Поступок в любом случае мерзкий — и говорящей о слабости, не о силе. Жалею, что она не ответила мне пощечиной; сейчас мне было бы легче. Звали ее тоже Лена, но с прозвищем: Лена-крокодил. Случилось это у моего приятеля А.Р., в квартире его отца, доцента Политехнического института. Я наорал на приятеля за то, что меня оскорбляют в его доме, и ушел, хлопнув дверью. Потом он передал мне слова Лены-крокодила: мол, бьет, значит, любит. Очень по-русски рассудила, но ошиблась: она мне была противна и без ее слов о евреях… Или, может, не так уж по-русски? Европа изумлялась этому русскому обыкновению, сколько помню, с XV века, но какая Европа? Немцы. А в другом конце Европы, в Испании, ту же особенность отмечает в XVI веке, в одной из своих не совсем замечательных новелл, не кто-нибудь, а Мигель Сервантес.
…Будь я евреем, разве я унизился бы до такого?
Из АФИ я перешел в 1971 году в учреждение с апокалипсическим именем СевНИИГиМ, и не в сотрудники, а в аспиранты. Место было замшелое, ветхозаветное: туда брали евреев. Аспирантурой заведовала милейшая Лидия Саввишна Сахарова, которая меня встретила, как родного, чем несколько даже ошарашила. Всё шло, как по маслу: вместо вступительных экзаменов я сдал прямо кандидатские и с 15 апреля получил вольницу на три года; хочешь, уравнения пиши, а хочешь — стихи.
Евреев в СевНИИГиМе явно не хватало, они были наперечет, зато уж и на виду. Градиентами почвенных вод занимался Виталий Кулик, потом уехавший в Австралию. Он слыл дельным ученым. Я заглянул в его ведомство, и мне не понравилось: уравнения в частных производных, компьютерные расчеты, программы на алголе. Нет, его в руководители я не хотел. Следующей кандидатурой оказался Давид Борисович Циприс, громадный мужик, на первый взгляд тоже несколько замшелый, как почти все в СевНИИГиМе, но, однако ж, с отменным чувством юмора. В отличие от АФИ, это учреждение, тоже сельскохозяйственное, было не академическое, а сугубо прикладное, по части гидротехники и мелиорации. Видно, это и занесло туда по случаю какую-то молоденькую корреспондентку. Ее направили к Ципрису, тот согласился дать интервью. Корреспондентка, естественно, попросила его подробно представиться. Циприс перечислил свои регалии: кандидат технических наук, руководитель таких-то проектов, чем-то там награжден — и, не моргнув глазом, добавил: лауреат нобелевской премии. Девочка, тоже не моргнув глазом, записала. Тут он ее останавливает и отечески журит:
— Советских лауреатов нобелевской премии в науке, уважаемая, ровно семь. Их по именам знать нужно. — И перечислил эти имена: — Семенов, Тамм, Франк, Черенков, Ландау, Басов, Прохоров.
С таким человеком можно было ужиться. Дело облегчалось тем, что в математике Циприс не смыслил; осложнялось же тем, что, будучи умным человеком, он держал в лаборатории математика, притом настоящего, не мне чета: Семена Моисеевича Белинского. С ним-то мне и пришлось обсуждать мои смутные идеи. Поначалу мы не поладили, а потом подружились.
Циприс, спасибо ему, меня к себе в лабораторию взял. Один аспирант с нечеловеческой фамилией у него уже имелся: Роман Рабинович. Где один, там и два. Боливар явно вытягивал двоих — потому что во всем остальном замшелом учреждении, на четыреста человек ученых и толченых, маячил еще только один еврей: монументальный, но совершенно деревянный Константин Иосифович Преображенский, заведовавший научно-техническим обществом сельскохозяйственных наук. Евреев не хватало. Явный процентный недобор; случай редкий, прямо-таки вопиющий. Институту требовался Юрий Колкер.
Белинский не мог быть моим руководителем, у него не было степени; Циприс — сомневался, и правильно делал. Оставался еще директор института, Николай Ильич Дружинин (1914-1994), некоторым образом доктор технических наук (и член-корреспондент ВАСХНИЛ), понимавший в уравнениях. Ему так или иначе нужно было представиться. Едва я переступил порог его кабинета и назвался, как он, добрый человек, сказал мне:
— А, сейчас я вам поставлю задачу… — И начал что-то набрасывать на бумаге, тоже по части градиентов почвенных вод или стока рек.
Я пережил пренеприятный момент. Пришлось объяснять, что у меня уже есть некоторые идеи; что я намерен описывать динамику накопления и перераспределения биомассы растительных сообществ, рассуждать об урожае в терминах систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Это было не по его части. Выходило, что я не хочу его в руководители. Возражать он не стал; больше мы не виделись, но встреча эта долго стояла у меня в памяти: его громадный кабинет с окнами на Итальянскую улицу (в ту пору — улицу Ракова) и на площадь Искусств, стол размерами с ракетодром — и моя потерянность перед всем этим величием. Надо же, думал я: набоб, а вот ведь и задачу может поставить. Неужто в набобы выбился по заслугам? В кабинете Полуэктова я никакого трепета не испытывал; тот был в первую очередь ученым, а лишь затем — начальником.
Главная моя трудность состояла в том, что я двурушничал: собирался не наукой заниматься, а литературой. И какой литературой? Стихами! Свое предательство я таил, скрывал это от себя самого в присутственных местах, но тотчас менял кожу за стенами СевНИИГиМа. Втайне надеялся, что сдюжу и там, и тут. Сдюжил ли?
Берем растение. Оно состоит из органов, каждый со своими свойствами, стало быть, задача многомерная, матричная; ура. Оно развивается; стало быть, налицо динамика, то есть дифференциальные уравнения. Еще раз ура. Нажимаем на один орган — другие изменяются (прямо по Ломоносову: если где чего убудет, в другом месте прибудет), в том числе и те органы изменяются, которые составляют урожай; то есть можно управлять урожаем; в третий раз ура; я ведь кибернетик. Нажимать будем с помощью воды, без которой растения не фотосинтезируют и не растут; тем самым имеем привязку к гидротехнике и мелиорации, к тематике института. Тыл обеспечен. Теперь берем популяцию похожих растений, всё равно дубов или колосьев. Можно вообразить ее как одно растение с Эйфелеву башню или Эльбрус; а можно — как совокупность клеточных подпопуляций органов, развивающихся в тесном симбиозе (частично пожирающих друг друга; см. картину Сальвадора Дали Осеннее каннибальство); остается описать развитие этих подпопуляций математически. Чем не задача?
Из общих соображений вытекало, что уравнения не могут быть линейными. Берем простейшую нелинейность: принцип Либиха, иначе: принцип лимитирующих факторов, или принцип бутылочного горлышка. Немецкий химик Юстус Либих (1803-1873) как раз урожаем и занимался. Если почву пересолить, добра не будет. Всё, включая воду, требуется растению в определенной пропорции. Нарушим пропорцию, увеличив сверх нужды присутствие в почве, скажем, натрия, — растение возьмет из почвы столько натрия, сколько ему нужно, не больше; тоже и с водой. Уравнения должны быть кусочно-линейные. Сперва биомасса растет по мальтузианской экспоненте, а потом выходит на логистическое плато. С прекращением фотосинтеза происходит переключение с одной линейности на другую. Математически это и просто, и сложно; вся сложность в моменте переключения.
Первый год аспирантуры я прогулял напрочь; стихи шли сплошной стеной, как цунами; было не до уравнений. К середине второго года я вплотную принялся за дело и в итоге состряпал фигню положенного объема. Руководителем у меня согласился быть Полуэктов. Он подсказал и подход, основанный на принципе Либиха. Диссертацию Полуэктов прочел уже переплетенной, почесал за ухом, внутренне, должно быть, хмыкнул и крякнул, но возражать не стал.
Математика у меня была жидковата, куда жиже, чем у Левы Гинзбурга или Юры Пыха из АФИ; те рядом со мною были сущие аристократы. Но всё-таки она была стройна и благообразна. Физика тоже была у меня жидковата; много не дотягивала до таковой в работах Лёни Фукшанского. По части физики имелись логические натяжки, видные только мне. По части цифр дело обстояло совсем плохо, прямо-таки постыдно. Невозможно было представить теоретическую работу, не подкрепленную расчетами. Это был бы существенный вздор-с, особенно притом, что институт-то был самый что ни на есть прикладной. Что тут оставалось делать? Только одно: действовать в духе известного анекдота про инженерную дипломную работу, где значилось: «а вал турбины сделаем из дуба. Всё равно ни один дурак до этого места не дочитает…». Так я и поступил. Единственный цифровой пример у меня — слегка подтасовал. Как рука поднялась? А очень просто: дело было не в цифрах, а в математике и в общем подходе. Настоящая обработка данных отняла бы многие месяцы — и могла не подтвердить изящных математических выкладок, мне же хотелось поскорее отвязаться.
Был ли я при этом полным профанатором? Ничуть. В момент, когда я принимался за работу — когда вся картина предстала передо мною еще только с эмбрионами уравнений, — я твердо верил, что так в природе и есть. Ученый ведь тоже верой живет. Иной раз вера толкает ученых на подлог — вот именно в том самом смысле: «сейчас я слегка натяну и подтасую, но дальше-то моя правота станет несомненной». Возьмем зоолога Пауля Краммерера (1880-1926). Он был верующий ламаркист. Верил всей душой в наследование приобретенных признаков — ну, и чуть-чуть подрисовал тушью своих жаб. Мировая знаменитость, между прочим; ученый, а не мелкий жулик. С пеной у рта доказывал свою правоту. А когда был пойман с поличным, покончил с собою — и не только от стыда, а еще и потому что не мог донести до сознания своих критиков, что он и в самой своей неправоте прав… Между прочим, чуть ли не с его смертью кончается целая эпоха в науке. На протяжении почти ста лет быть ученым значило быть немецким ученым. До самого конца 1930-х немецкий язык был языком науки; тем, чем сейчас является английский. Этот факт — утрату немецкой гегемонии в науке — почему-то забывают причислять к катастрофическим для Германии последствиям нацизма.
Скажем и другое: диссертация — не более чем диссертация. Возможен, очень возможен и вполне пристоен минималистский подход. Иной раз человек представляет в качестве диссертации работу под названием К электродинамике движущихся сред, и она переворачивает мир. Бывает. Но 99,99% диссертаций полны ошибок и вздора, или, хуже того, содраны, — и пропадают бесследно, притом, что их авторы иной раз всё-таки, не в пример мне, становятся учеными. Ведь цель-то и смысл у диссертации другие, служебные: показать, что человек может что-то делать самостоятельно, худо-бедно немножко в ладу с мыслью и логикой, не чужд изобретательности, и вот этого — самостоятельности, остроумия — в моей работе было как раз в меру, если не с избытком. Большинство диссертаций в мое время писались так: человек «входил в тематику» лаборатории, где имелись наработанные куски, пути и методы; делал некоторый (часто крохотный) вклад в общую копилку — и представлял работу в высшей степени реалистическую, привязанную к практическим нуждам, фактам и действительности, без фантазий, но такую, в которой сам он — почти отсутствовал. Еще и то добавим, что в советское время работать по-настоящему не давали, всюду были рогатки, шагу нельзя было ступить, — а человеку со степенью жилось чуть-чуть легче, и ради степени — ради будущего — можно было чем-то поступиться; все поступались. В проклятом Ленинграде перенасыщение в ученом мире было таково, что я всерьез строил планы переезда в Эстонию, в Красноярск и даже в захолустный Новочеркаск, где появилась группа, занимавшаяся математической биологией.
Вот еще что нельзя упустить из виду: никогда бы я диссертации не написал, не будь она для меня, сверх науки, еще и писательством. На защите и до защиты критики специально отмечали элегантность моей работы, ее хорошие язык и слог. Что ж, у каждого автора (берем это слово в самом широком смысле) есть свое сокровенное маховое колесо, зачастую совершенно неясное прочим.
Сдал я сочинение в срок, в начале 1974 года. Началась самая мерзость: бухгалтерское начетничество, неизбежно сопутствующее защите. Нужны были отзывы. В АФИ работала умная женщина из биологов, Софья Львовна Пумпянская. Она прочла и ахнула:
— Скажите, бога ради, чем же там прочие-то занимаются у Полуэктова?
Я сперва не понял, куда она клонит. Второй ее вопрос прояснил дело:
— Как вы представляете себе будущее вашей модели?
Тут я догадался. Смысл ее слов был тот, что в моей работе сделано нечто радикальное, и будущее моей модели — лаборатория, а то и целый институт, который я под свою модель получу. Мне едва удалось уговорить ее, что я так высоко не мечу и что никакого будущего у моей модели нет. Отзыв она написала более чем благожелательный.
Фукшанский, прочтя, сказал:
— Быстро же ты работаешь! — И тоже написал, что требовалось.
Защищался я в Красноярском институте физики АН СССР. «Головное учреждение» у меня было — биологический факультет МГУ (оттуда был главный отзыв). Официальными оппонентами на защите выступали Владимир Николаевич Белянин из Красноярска и Владлен Лазаревич Калер из Минска. Эти добрые люди, которых я едва знал, уговорили меня защищаться. Да-да, написав и сдав свой окаянный труд, я защищаться раздумал. У меня пошла тяжелая полоса. Она случайно совпала с реорганизацией ВАКа, из-за которой защита откладывалась в течение четырех лет. А я тем временем проникся таким презрением к себе и к своей работе, что решил ее бросить; да и с наукой всё было кончено. Наука должна служить людям — и моя диссертация служила: переплетенный том приходилось подкладывать под ванночку, в которой мы с женой мыли новорожденную дочь; воду кипятили в ведрах на газовой плите на кухне, тащили в комнату, а ванночка, как на грех, плохо стояла на двух ветхих венских стульях, и диссертация очень помогала.
На защите был еще неофициальный оппонент, который, думаю, и решил дело в мою пользу: профессор Юхан Карлович Росс из Тарту. Я, некоторым образом, отталкивался от его работ, где математика была эмбриональная и очень прикладная, но потом ударился в обобщения и фантазии. Принять на защиту мою диссертацию к себе (в свой ученый совет; в ту пору было всего три совета, присуждавших физико-математические степени по математической биологии: у него, в Москве и в Красноярске) Росс отказался, а в Красноярск прилетел и, против всех моих ожиданий, поддержал меня. Красноярцы укандидатили меня не без критики, но единогласно: 12:0. (Другой подзащитный, москвич с несколько австралийской фамилией Муррей, получил два черных шара; я стишок про него начал сочинять: «Защищается еврей по фамилии Муррей».) Жаль, не помню имени человека из ученого совета, который прямо на защите рекомендовал мне быть осторожнее с терминологией — когда я буду докторскую защищать. Дело в том, что я еще и свои термины вздумал вводить (вроде «партиционной структуры»), а установившиеся термины употреблял с излишней вольностью.
Самый последний отзыв на мою жалкую диссертацию я получил спустя четверть века после защиты — в 2003 году, в Бостоне, где читал стихи в Лавке читателей у Мары Фельдман. Меня, как и всех сочинителей на выступлениях, расспрашивали; я сказал среди прочего, что ученый из меня не получился (и привел знаменитые слова Давида Гильберта, сказавшего о своем аспиранте: «Он стал поэтом; для математика у него не хватало воображения»). Тут выяснилось, что один из слушателей, мой давний знакомый Леопольд Эпштейн, выпускник московского мех-мата, некогда писал отзыв на мою работу в Новочеркасске (на защиту отзыв пришел за другой подписью).
— Зря ты себя чернишь, — сказал он. — Работа была хорошая.
Я замахал руками, но спорить не стал.
В 2003 году моя дружба с Эпштейном уже клонилась к упадку. У него была та же болезнь, что у меня: стихи; но он с нею справился и профессию не утратил, а вместе с тем и как поэт завоевал признание. Балтиморский Вестник назвал его лучшим поэтом эмиграции при жизни Бродского; пустяк, а приятно. В 1978 году, когда Эпштейн писал отзыв на мою диссертацию, мы знакомы не были. Когда познакомились (в Ленинграде, в начале 1980-х), он потешил мое детское честолюбие дивной историей: оказывается, получив диссертацию, он спросил коллег, не говорит ли им что-либо имя Юрий Колкер. Один ответил: «В Ленинграде есть такой биофизик», а другой сказал: «В Ленинграде есть такой поэт…» Слава советской науке!.. Как тут не заплакать от счастья? А то ведь всю жизнь живешь с вопросом: точно ли я есть — или хоть был?
Юхан Карлович Росс, спасибо ему, произнес свое веское слово на моей защите — и облегчил или, может быть, испортил мою последующую жизнь; потому что неизвестно, помогла ли мне ученая степень. Может, я раньше бы осознал, что сел не в свои сани; меньше бы мучился комплексом Эренфеста, сознанием моей научной несостоятельности. Андрей Белый не сумел получить диплом биолога, отстрадал положенное — и забыл, занялся главным. Могло и со мною так выйти. Но вышло иначе — и прошлое сослагательного наклонения не любит. Скажем так: Росс на мою жизнь повлиял.
В мае 1978 года, когда я летел на защиту, мы оказались с Россом в одном самолете. Летел он в Красноярск, конечно, не ради меня, хоть я и не спросил об этом. Увидев его в очереди перед посадкой, я решил, что он — мой приговор: завалит. К себе-то он мою работу на защиту не принял. Но в самолете мы сели рядом и говорили дружески. Я напомнил ему, как в 1972 году, будучи в гостях в его астрофизической обсерватории в Тыравере, я спросил его (он как раз уходил в отпуск), ездит ли он отдыхать «на море», то есть к Черному морю, а он ответил:
— Мне и здесь хорошо.
Я тогда прекрасно его понял. Это был патриотический демарш: я — на родине, в моей Эстонии; я всё здесь люблю; не нужен мне берег советский. Вот это я и пересказал ему в самолете, и он, хоть и не вспомнил, согласился. В ответ я пустился в рассуждения о том, что у меня-то с родиной трудности: вроде вот она, тут, а меня тут своим не считают; вместе с тем и Израиль — не родина, там всё чужое. Еще (хоть за это и не поручусь) выдал я ему мою давнюю мечту: что неизбежный развал СССР начнется, так мне казалось, с двух стран, с Армении и с Эстонии. Отозвался ли этот разговор на его выступлении на защите? Не пытался ли я подольститься к нему? Не знаю. Если так, то лесть была рискованная.
Поездку в Тыравере стоит вспомнить, она была презанятная. Ближе к лету 1972 года я, наконец, понял, от чего буду танцевать в своей диссертации: от работы Росса Система уравнений для количественного роста растений, опубликованной в 1967 году. Заметьте, что название звучит по-русски не совсем правильно; Росс и говорил по-русски с затруднениями, но в русской среде быстро набирал форму. Математики в этой статье Росса не было, считай, никакой, и я решил, что я эту математику наведу и его обрадую. К лету 1972 года я набросал статью, развивавшую, мне чудилось, наметки Росса; позвонил ему и получил приглашение приехать в Тыравере, местечко под Тарту, где его научное гнездо располагалось: геофизическая обсерватория. Аспирантство давало мне право на половинную скидку со стоимости билета. В Тарту я решил лететь. Как раз открылось самолетное сообщение между Ленинградом и Тарту. Мой дневник не сообщает, столько я заплатил в кассе Аэрофлота; думаю, рублей 12 в один конец.
Почему нельзя было послать статью почтой? Потому что ехал я, собственно говоря, не к Россу, а к Вальмару Адамсу и Светлане Бломберг.
Вальмар Теодорович Адамс (1899-1993) был поэт и профессор русской литературы в Тартуском университете. Я как раз перевел (с подстрочника) одно его стихотворение и ехал знакомиться. А студентка Света училась у Адамса; за нею я вполсилы приударял. Она писала стихи; мы познакомились в декабре 1971 года на конференции молодых писателей Северо-Запада. Поездка должна была совместить приятное с полезным. Вылетал я 6 июля 1972 года, в четверг.
Слышали про такой аэропорт: Смольное? Я был изумлен, услышав. Ехал на электричке с Финляндского вокзала. Приехал — и глазам своим не поверил: деревянный сарай, травяное поле, коза с козлятами пасется — и ни одного самолета. Ну, думаю, не туда попал. Показываю в сарае свой половинный билет; говорят, всё в порядке, только подождать нужно. На часах 11:51, мой вылет — в 12:30. Сперва я сел рядом с козой, начал стихи набрасывать — о радости предстоявшего полета над городами и весями: «Под крыльями тянутся облака, как пена стирального порошка с печальным названием лотос…». Тянулись облака, тянулось время. Самолета всё нет. Говорят, еще два с половиной часа ждать как минимум. Погода стояла неровная; то жара, то вдруг дождь. Я поехал домой, переоделся (надел шорты), поел наскоро в шашлычной на проспекте Науки, вернулся к 15:25. Говорят, самолет был задержан в Тарту, а сейчас уже здесь, «ребята обедают». Когда отправление? Не знаем. Тут «ребята», числом трое, выходят, утирая рты.
— Вы что, один, что ли?
Я оглянулся по сторонам и никого вокруг не увидел.
— Богато живем! — говорят ребята. Если б они еще знали, что билет у меня половинный! Государство надувало гражданина на каждом шагу, но тут я невольно надувал государство. Пусть каждый из «ребят» получал по десятке за полет; меньше никак не выходит; итого тридцать да плюс за горючее столько же: 60, а я заплатил в пять раз меньше.
На поле рядом с козой стоял самолет: биплан АН-2…
Вылетели в 16:00. Первый и единственный раз в жизни в самолете меня укачивало до рвоты, потребовался мешок, так что печально было и без лотоса, а стиральный порошок мог потребоваться после полета. Мне было не только плохо, но и стыдно. Через два часа мы приземлились на лужайке в другой стране, в другом мире. Самолет встречали. К двери была подставлена лесенка для спуска — и я гордо спустился в полном одиночестве, как премьер-министр или коронованная особа. А что? Не про поэта ли сказано: ты царь! живи один, дорогою свободно иди, куда тебя влечет свободный ум…
— Спешите, автобус ждёт десять минут, — сказала мне женщина в форме Аэрофлота. Куда спешить? Ходьбы — две минуты. Билета в автобусе мне не дали, я положил 20-копеечную монету в чашечку перед водителем и благополучно добрался до улицы Пяльсони 14, до студенческого общежития № 3. Света нашлась со второй попытки. Я был не совсем кстати; при ней находился другой ее поклонник, Илья Клейнер, тоже студент, тоже из евреев. Ну, не бедствие ли это? Почему в Эстонии-то одни евреи? Клейнер пристроил меня ночевать в общежитии, в комнату 108 (кровать без белья и подушки, но с одеялом). Свободный мир! Чорта с два меня в Ленинграде пустили бы в студенческое общежитие без бумаги и (или) взятки. Света, не подумайте дурного, ночевала в другой комнате, с девочкой по фамилии Кёль, не еврейкой.
На другой день я отправился в Тыравере, к профессору Россу. Билет на дизель — 30 копеек, езды 40 минут. Обсерватория — миленький домишко на холме, а кругом пейзане. Ах, вот бы перебраться сюда и работать тут, в полях, где всё так мило и спокойно, а наука — такая провинциальная, неспешная, ласковая. Строил ли я такие планы? Строил… Росс первым делом повез меня на своем вазе в Эльву — обедать. Наука началась прямо в машине, продолжалась после обеда в его кабинете (№ 16) на втором этаже обсерватории и вечером у него дома, в селе Риани. Подход мой Россу не понравился — как слишком формальный, оторванный от жизни. Сам-то он интересовался тем, как каждый листок к солнцу поворачивается; задавался вопросом, влияет ли ветер на фотосинтез. В мои уравнения эти вещи не засовывались. Он даже не предложил напечатать мою статью в своем захолустном провинциальном бюллетене. Значит, не судьба: не быть мне эстонцем. Но жизнь ведь не сводилась к одной науке. У меня в программе оставались еще Света и Адамс.
Днем Света сидела в библиотеке или сдавала экзамены. У нас, в Ленинграде, — экзамены были баррикадными боями, профессорский состав шел на тебя в штыковую атаку и норовил глотку перерезать, а тут — это просто в воздухе висело — никаких классовых боев, сплошная идиллия в Аркадии, пощебетал — и подставляй зачетку. Всё, всё было другое. Отчего я не эстонец и не славист?
Вечером мы со Светой оказались в кафе над рекой Эмайыги, и она записала мне в блокнот свои стихи под названием Тарту в конце Июля (именно так, с прописной):
|
В зеленом зеркале реки Лежит недвижимая лодка И на одной высокой нотке Дрожат упругие мостки. Упала стая птиц в листву И разлетелась на осколки, И бой часов глухой и долгий Погладил неба синеву… |
Ах, милая! Гениально… особенно это погладил.
Девятого июля мы с нею отправились на дачу к Вальмару Адамсу. Ехали долго. Сошли на станции Valgemetsa, Света по-эстонски спрашивает, как добраться на хутор Kasese и, заметьте, Адамса при этом не называет. Но крестьянка и так знает, кто там живет:
— Professoor Adams? Vene philoloog?
Ничего себе: пастушка знает слово филолог — и без презрительного хмыканья произносит слово профессор. Как далеко мы от России! В другом мире, на другой планете. В двух часах лету на биплане… И это vene — в какую древность оно отсылает! Некогда славян (хоть и не всех) называли венетами, венедами. В связи с этим была даже остроумная идея выдвинута, что хоть Венеция и далеко, а город-то нашенский. А сами эстонцы? Что они древнее русских, тут и говорить нечего. Готский историк Иордан, писавший в VI веке, знает эстов.
Мы добрались к Адамсу. Тот профессор был молод, этот — стар, высок, обаятельно нескладен, и в шортах, как я. Гуляли вдоль речки Ахьи. Он слышит только правым ухом (левая часть лица неподвижна), ухо отгибает правой рукой и наклоняется к собеседнику. При нем жена Лейда Юрьевна, «очень социальный человек» (постоянно принимает гостей). На даче гостит машинистка Адамса с сыном.
— Вам вместе постелить? — спросила Лейда Юрьевна меня и Свету.
Ходили к Юрию Михайловичу (Юрмиху) Лотману, заведующему кафедрой русской филологии. О нем Адамс говорит:
— Мировая величина, глава école de Tartou.
Я слушаю и не понимаю: отчего он так щедр, почему Лотмана хвалит, а не себя? Вы-то, Вальмар Теодорович, вы ведь тоже мировая величина, разве нет? Мне почти жаль его, мне страстно хочется, чтоб и он оказался мировой величиной; ведь я его и дальше переводить собираюсь. И кое-что на это указывает: он дружил с Карелом Чапеком в Праге (где прожил два года), с Игорем Северянином в Эстонии (куда тот эмигрировал). Он только что получил письмо от Генриха Бёлля, с предложением вступить в Пэн-клуб. Вы вступили?!
— Я даже не ответил…
Еще бы: письмо было послано одновременно с таким же письмом Солженицыну. Адамс хочет издать еще одну свою книгу, изборник, а в издательстве тянут, допытываются, с кем из профессоров в США он переписывается.
— Раньше я писал стихи… Теперь я историк литературы…
Отчего у меня сердце сжимается, когда я это слышу? Ведь человек, в сущности, счастливую жизнь прожил; ему 73 года — и он еще бодр, преподает, мыслит.
При имени Северянина я морщусь, а он говорит:
— Да, безвкусица, полное отсутствие культуры, но ведь как он писал стихи! За обеденным столом, во время беседы, единым духом — ведь это биологическое чудо! А голос какой? Однажды в грозу он читал на память свои стихи под этакой античной бельведерой — и перекрывал гром! Случалось, после обеда он сидел у камина и пел одну за другой арии из какой-нибудь оперы, да так, что стены тряслись…
Чапека Адамс знал в его лучшие годы — когда тот был знаменит и любим; когда президент Масарик, случалось, заглядывал к нему поболтать.
— Чапек всегда знал, какая [sic!] у меня любовница, но запомнить мою национальную принадлежность было выше его сил…
Лотман — человек с усами. Зачем семиотику усы? При нем сын лет десяти-двенадцати, у которого по глазам видно, что он прочел всё на свете и еще чуть-чуть. Беда с этими евреями. И ведь тоже, небось, усы будет носить, когда вырастет… Меня просят почитать стихи. Я не отказываюсь, но и не злоупотребляю, читаю ровно одно стихотворение, причем младший Лотман меня глазами пожирает.
|
Афины, этот спрут, в гордыне уличён У локрских берегов, в отваге детской, Где двадцать кораблей выводит Формион — Один к пяти! — на флот пелопоннесский. Мой непривычный глаз резни не разглядит. Туда, где сгрудились триремы кучей, Веди меня по водам, Фукидид, Дразни меня, выматывай и мучай. И что за благодать: неравный этот бой Пытаться разглядеть, над водами виднеться Бакланом молодым, заигрывать с судьбой И в детство человечества глядеться! Тысячелетний зной, векам потерян счёт, Под выгнутым крылом — залива постоянство, Над берегом пророческим течёт Внимательное, ясное пространство. |
Тут уж и Адамс на меня уставился своим перекошенным (мне казалось — от изумления, а не от инсульта) лицом:
— Как, вы Фукидида читали?!
От Лотмана не осталось тогда ни слова — ни в дневнике, ни в памяти. Я ведь не к нему ехал. В годы отказа, в Ленинграде, мне довелось слушать одну его лекцию. Лотман нарисовал мелом на доске чертеж, из которого я заключил, что он сейчас примется новым способом доказывать теорему Пифагора: пифагоровы штаны на все стороны равны. Это и оказались штаны, но другие, петиметровы.
— Петиметром, — провозгласил культуролог, — мог стать всякий, а денди — это была благодать.
Его комментарий к Евгению Онегину я в те же годы прочел взахлеб. Одно там раздражало: зачем автор вместо Пушкин (Пушкина, Пушкину…) пишет всюду П без точки, да еще курсивом выделяет. Не игра ли это в науку, не дешевка ли? Сэкономил две страницы в книжке на пятьсот страниц и затруднил чтение. Имя у поэта склоняемое; иной раз неясно, «кто кого», действительный ли на дворе залог или страдательный. Чуть позже я столкнулся с рассуждением Лотмана о метафоре пути в стихотворении Лермонтова Выхожу один я на дорогу — и тут уж вовсе обомлел: выходило, что маститый литературовед не понимает стихов. Не идет лирический герой Лермонтова по дороге; только выходит на нее. Стихи самым своим тоном не оставляют в этом сомнения. Жизнь поэта — тоже. В дорогу он бы верхом отправился. Но тут Лотман не одинок. И другие маститые да именитые (Тарановский, Якобсон) делали ту же анекдотическую ошибку. Тоже стихов не понимали. Якобсон, бедняга, так и умер с верой, что Маяковский — поэт, да еще великий. Так и вижу, как он руку Сталину пожимает, другому великому языковеду.
— Вы не боитесь? — спрашивает Адамс. — Все, кто пытался меня переводить, плохо кончали. Мой немецкий переводчик свернул себе шею. Его верховая лошадь сбросила.
— Я не езжу верхом.
— А мой московский переводчик, близкий друг Юнны Мориц, из окна выбросился.
Мы идем с Адамсом и Светой через овсяное поле. Разговор — о современной русской поэзии. Света, милая резвушка, забегает вперед и прячется в овсе, а я как раз объясняю Адамсу, почему Кушнера предпочитаю Бродскому. Тот вдруг останавливается и спрашивает:
— Он что, еврей?.. — Я весь сжимаюсь в комок. Началось. Куда деваться? Будь я евреем, всё было бы в порядке; будь русским — и это неплохо; живут же люди. Между тем Адамс говорит такое, что я сейчас и дневнику едва верю: — Героический народ! Я много видел его представителей — и здесь, и в германском подполье. Самые смелые люди! Как нелепо бытующее представление о еврейской трусости!
Бедный, бедный Юрик… нет тебе места на земле. Оказывается, ты трусоват оттого, что ты не еврей… не до конца еврей…
Тут мы доходим до спрятавшейся Светы, она выскакивает из овса и говорит: — Гав! Хорошо, что слева; Адамс не слышит.
Сейчас я бы спросил Адамса, откуда у него валлийская фамилия, но спросить уже некого.
Возвращался я 11 июля. Самолет вылетел без опоздания. Те же трое бравых пилотов — и целых три пассажира. Меня не укачало. Весь полет у меня вертелись в голове несостоявшиеся стихи: «Ночью была гроза — речка Ахья грязна…» Вот возьму и допишу сейчас, 36 лет спустя. А что? Я ведь всё это вижу, как если б дело вчера происходило. И стихи — единственная реальность в этом мире.
|
То танкетки, то ракеты, Залп катюши над рекой. Край родной, жидом воспетый! Где найдешь еще такой? |
Я попался в шестилетнем возрасте — и навсегда. «Гетто избранничеств! Вал и ров. Пощады не жди! В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!» Вот именно: пощады — не жди. Сомнительное избранничество кладет мрачную тень на всю человеческую жизнь, превращает тебя в заведомого неудачника. Сомнительное — потому что не сомневаться нельзя даже на вершине своих достижений, в сладчайшие минуты единения с музой. Боратынский — и тот сомневался: «Меж нас не ведает поэт, высок полет его иль нет, велика ль творческая дума…» Это в его-то время! Что же говорить о нашем, кромешном, кошмарном?
Ну, и жидовство тут очень на месте… Слово, кстати, совершенно безобидное; зря за него в 1920-30 годы в СССР в тюрьму сажали. Слово как слово. По-украински и по-польски другого и нет. Во всех европейских языках, кроме итальянского, используется тот же корень. И не в слове дело. Ко времени моего юношества слово еврей тоже стало ругательством и оскорблением.
У Цветаевой поэты — жиды, но верно и обратное: жиды — поэты. Удивляться этому смешно. Кем бы ни были библейские пророки (одни их мыслителями назовут, другие — носителями слова божьего), в первую очередь они — поэты-моралисты. Самая невнятица их правдоискательства, самое это непрописанное метафорическое бормотание о высоком и недостижимом — уже выдает поэта. Традиции — по крайней мере три тысячи лет, а с момента рассеяния весь строй еврейской жизни был сфокусирован на книге, весь культурный отбор, из поколения в поколение, подчинен одному жесткому правилу: правилу поэтической мечты. Теперь берем русскую просодию, самую живую и завораживающую из просодий всех новых языков; открываем черту оседлости, выпускаем евреев из гетто в эту просодию — и получаем неизбежное. Один поэт, назвать которого я не хочу, потому что он свое еврейство, всем очевидное, никогда публично не комментировал, сказал мне в 1984-м и повторил в 1997 году без свидетелей:
— Закончится двадцатый век, они оглянутся — и увидят, что всю поэзию им сделали евреи.
Это они потрясло меня. Сколько раз после наступления свобод его вызывали на разговор об антисемитизме (а ему досталось), и ни разу он не откликнулся ни полусловом, всегда не замечал вопроса. Как мой отец, вообще слова еврей избегал. А тут — родину расовым барьером разделил! Потому, что для тех, кто попался, родина — не Россия и не русский язык (о языке как родине сейчас твердит каждый встречный и поперечный), а русская просодия. Россия, как показала последняя линька, безнадежна. Отвернуться и забыть — вот всё, чего она заслуживает. Ни Пушкин, ни Толстой никогда не признали бы сегодняшнюю Россию родиной. Они de facto не признают ее своею — каждым своим словом и душевным движением. На дворе — другой народ, чуждый и враждебный тому, который создал волшебную просодию и нравственно-духовные ценности, ошеломившие Европу в XIX веке.
Дома, на родине, для меня никогда не существовало барьера, столь бестактно воздвигнутого поэтом. Когда речь идет о стихах, я не понимаю слова этнос. Что мне за дело, что Пушкин — из негров, а Цветаева — из немцев? Но на родине мы бываем редко. Совсем другое дело обыденная жизнь, сегодняшняя рутина. Тут на первый план выступают насущные потребности и злоба дня, а с ними — и вопрос честного антисемита всех времен и народов: почему евреи в своей массе живут лучше и добиваются в жизни большего, чем не евреи. Отвечать на этот вопрос смешно, а вот жить с ним, под его ежеминутной сенью, — приходится. «Что за фамилия чортова! Как ее ни вывертывай, криво звучит, а не прямо…» Это еще мягко сказано, добродушно. На деле проблема куда острее стоит. Не велика беда, что в России, где каждый булыжник, отмытый от голубиного помета, непременно оказывается плешью Маяковского, нет и никогда не будет улицы Мандельштама. Улицы Боратынского тоже нет. Стихи нужны немногим — и с каждым веком всё меньше. Беда, что практически каждый, прочтя или услыхав вашу фамилию, меняет свое отношение к вам. Это — при стабильном правительстве и рынке; а чуть инфляция, жди погрома.
Мы сейчас не на родине (не стихами занимаемся); мы со стороны смотрим, из прозы. Смотрим и видим: поэт в своей бестактности был прав. В XIX веке Россия без евреев обошлась, потому что это была другая Россия. Один только Фет, русский до мозга костей, генетически оказался недоброкачественным; да еще Надсон на галерке. А двадцатый век начинается с Блока, носителя фамилии самой еврейской и немножко антисемита: вернейший симптом выходца, хоть и у прямых евреев антисемитизм — не редкость. Может, и зря на него наговаривают, но доискиваться мы не станем из принципа; результат был бы горький, горьковский, ничтожный и неверный («если человек талантлив, в нем есть хоть капелька еврейской крови»). Довольно и фактов: Блока подозревали и подозревают; его имя, немецкое Bloch, стало скрипичным ключом столетия. Дальше — отворяй ворота; пошло-поехало. Пастернак да сельдерей, что ни овощ, то еврей. Можно перечислять, а можно и не перечислять; довольно и того, что в большой четверке двое выкресты, да Бродского под занавес века. Если взять работников сцены с Маршаками и Светловыми, то выходит, что ямб просто был отдан евреям на откуп; картина прямо-таки удручающая. Конечно, ее можно разом смахнуть со стола, объявив первым поэтом Есенина, а вторым — Клюева, но тут нужен особенный пыл; под взглядом Пушкина и Тютчева эти двое чувствуют себя неуютно, а Пастернак с Мандельштамом c лица не спадают.
Теперь вообразим мальчишку с неудобоваримой фамилией, написавшего свои первые стихи в 1952 году, в год подготовки дела врачей. Веселенькое ему выпало время, нечего сказать. Сперва страшно, а потом пошло. Чем больше он взрослеет, тем на дворе безнадежнее. В послесталинскую щель он не проскакивает по возрасту, а дальше у него и шанса нет, потому что пошлость и маразм крепчают день ото дня. Эрика, говорите, берет четыре копии? Свидетельствую: даже шесть, когда печатаешь для заработка; а когда для славы, то дело не в эрике, а в гитаре. Иисуса Христа не печатали? Но тот, кто это твердил, в страшную минуту шепчет другое: «читателя, советчика, врача!» Бродский без гитары обошелся? У него было нечто получше — нет-нет, я не о таланте; талантливы вообще многие; у него был персональный магнетизм, дар вождя и пророка, общественная гениальность, прямо с поэтическим даром не связанная; та самая гениальность, которой так щедро был наделен Маяковский и напрочь обойден Мандельштам. И еще: весь он скроен из одного куска, счастливчик.
Я пишу о себе — и, кажется, жалуюсь. Но я и о своем поколении пишу, которому достались рожки да ножки вместо чаши на пире отцов. Это поколение прекрасно представлено в машинописной антологии Острова (1982, Ленинград; составители А. Антипов, Юрий Колкер, С. Нестерова, Эдуард Шнейдерман). В качестве подзаголовка на обложке еще значится: «неофициальная поэзия», хотя правильнее было бы сказать неподцензурная. Составители честно работали год с хвостиком, попытались охватить весь Ленинград за тридцать лет, просмотрели чортову прорву «текстов» и отобрали 79 авторов. Целых сорок процентов из этих авторов — с евреинкой. Нужно ли говорить, что составители ни на секунду не исходили из расового критерия? Это так же верно, как то, что бьют не по паспорту, а по роже. Наоборот, мы, сосчитав цыплят, неловкость испытали (мы — или, во всяком случае, я). Но, может, мы стихийно, бессознательно отбирали единоплеменников? Ведь что ни говори, а среди составителей, по некоторым признакам, был только один русский, и тот — я. Однако ж бригаду нашу составили не мы сами, а люди вполне православные — точнее, ни в чем дурном не замеченные, без еврейских бабушек. Православные — не вполне подходит потому, что и авторы, вошедшие в сорок процентов, были почти сплошь выкрестами и примерными прихожанами, да и среди нас четверых двое были крещеные (на меня не подумайте, я нехристь), а мы знаем, что для честного христианина нет ни эллина, ни иудея.
В 1985 году, в Париже, меня отвели в русскую книжную лавку, где интеллигентный продавец взял у меня десять экземпляров моей только что выпушенной первой книжки стихов. Вежливый был человек, спасибо сказал. Позвонил в тот же день, чтобы сообщить, что одну книжку уже купили; успех! А тому, кто меня привел, он сказал другое:
— Это катастрофа!
Золотые слова. Каждый вырвавшийся за пределы СССР первым делом издавал книгу стихов, а уж потом лыжи снимал. Выезжали же, как мы помним, преимущественно евреи. В Израиле, где евреев много, в те годы шляпу впору было снимать перед чудаком, который стихов не писал. Израильский союз писателей состоит из языковых секций. Первой по численности издавна идет не ивритская, а русская.
| Когда б вы знали, из какого сора… |
В АФИ всё для меня обломилось, в первую очередь, по моей вине, но — далеко не только по моей. Столкновение с пошлой канцелярской стороной науки вылилось у меня в сознание, что душа в этих садах пищи не найдет. По этой ли причине я утратил былую уверенность в себе? Не меняю ли я местами причину и следствие? Может, яблоки зелены? Не важно. Не об этом речь. Неожиданно с новой, прежде небывалой силой на меня нахлынули стихи; на них я и сделал ставку. Переход в аспирантуру СевНИИГиМа читался так: напишу диссертацию — чудно, она облегчит дальнейшую жизнь, а я останусь в науке честным середнячком или прямым аутсайдером; не напишу — тоже ладно, потому что дело не в ней.
Одно только не было предусмотрено в этом прожекте: в 1973 году я женился. Сверх науки и стихов возникло еще одно серьезное предприятие, требовавшее душевной отдачи. Пускался я в это предприятие с верой, что моих сил с избытком хватит на всё, а вышло не так: семья немедленно выдвинулась на первое место, потеснив прочее. Почему? Во-первых, потому, что женился я по любви, хоть и не внезапной: знал Таню многие годы, с девятого класса 43-й школы рабочей молодежи, где мы были одноклассниками. Во-вторых и в главных потому, что начало семейной жизни означает социализацию, вхождение в общество. У меня это вхождение оказалось страшным.
Вообразите коммунальную квартиру: вход через кухню (высоченный, полвека не чищенный потолок; неровный, из подгнивших крашеных досок пол). Входная дверь снаружи легко открывается без ключа. Четыре комнаты — шесть семей. За нашей стенкой — еще не старая женщина Надежда Матвеевна с двумя взрослыми дочерьми, Галей и Любой, а у Любы, тут же, — муж Сережа Ривин и шестимесячный мальчик Витя: все пятеро в одной комнате в 24 кв.м. (Люба, вроде моей матери, выходя за Сережу, не догадывалась, что он с евреинкой; молодая была.) Узкий, темный коридор, в дальнем углу — наша комната, самая большая: 28 кв.м, семь углов и два окна, выходящие на крышу котельной. На 12 человек жильцов — один сортир, ванная без горячей воды и одна плита с 4 конфорками. В качестве компенсации — Летний сад в пяти минутах ходьбы.
Мы с Таней слишком дорожим нашим отличием от обывателей, чтобы отличаться от них внешне. Приходит наша очередь уборки — и мусор я выношу чаще, а пол мою чище соседей. Есть (мы убеждены в этом) только один способ преодолеть метафизическую тьму советской действительности: принять на себя все, без изъятья. Кто сказал, что переполняющие поэта звуки освобождают его от общей для всех участи: стоять в очередях, чистить унитаз? Моя полудеревенская соседка не смыслит в уравнениях — поэтому я уступлю ей плиту и подотру после нее под раковиной. Мне больше дано. Романтическое презрение к быту, когда он так тяжел, — всего лишь пошлость, перекладывание на ближнего своей человеческой ноши… Но стирка! — зимой, в ледяной воде. Этого не забыть. Особенно — стирка пеленок. Стирал я их с неимоверной тщательностью, с поистине религиозным пылом, гладил — с обеих сторон.
Поначалу бедность нас не пугала, скорее воодушевляла. Много ли нам нужно, пока мы вместе? Лежанкой служил матрац, стоявший на четырех ящиках из-под пива. Один из двух шкафов при перевозке сломался и был кое-как сколочен гвоздями; шрам шел прямо через переднюю дверцу. Два ветхих письменных стола, две примитивных книжных полки без стекол, совсем ветхий обеденный стол — тот самый, с Пердека, с архитектурными ножками; карликовый холодильник с двадцатилетним стажем; две крохотных зарплаты — и непомерная вера в будущее…
В 1973 году мы с женой решили, что мы — толстовцы. Счастливый человек не верит в жестокость и зло, с радостью готов подставить другую щеку. Православная церковь не годилась, ладана мы не хотели; о других религиях и конфессиях и слуху не было; моралистические сочинения яснополянского старца в точности отвечали нашему аморфному духовному запросу.
У евреев, как я узнал потом, есть высказывание: семья выше синагоги. Иначе говоря, семья — основа веры, начало служения. Чему, кому? Праздный вопрос! Можно не отвечать на него и даже не задаваться им. Можно оставаться полным атеистом (возьмите хоть Заболоцкого), а всё-таки знать всем своим существом, что ты пребываешь в храме. Я причастился этого чувства. Открыл в свой черед, что отказ от мелкого эгоизма — ключ к блаженству. Жертвовать ради близких в малом и в большом, жертвовать главным, тем, что еще недавно составляло смысл твоей жизни, начиная со свободы, не исключая и самого вдохновения, — это ли не счастье, не свобода? Конечно, бес — тут как тут со своей шутовской подсказкой: «свобода — это рабство!» Он гол, оттого и хитер на выдумки. Скажет: дракон кусает себя за хвост; разумный эгоизм — не разумнее безумного и не в меньшей мере эгоизм; эгоизм — всегда разумен, любой эгоизм… Дай ему волю, Мефистофель еще многое нашепчет: что в храме нельзя находиться слишком долго, потому что в нем не живут; что равенство в супружестве так же недостижимо, как в дружбе, — даже еще более недостижимо; что упоительное желание ничего не скрывать от предмета твоей любви — кратчайший путь ко лжи; даже — что ложь составляет самую сущность и квинтэссенцию супружества, притом не французского, не внешнего супружества, о котором и говорить нечего, а самого что ни на есть русского, задушевного, по Толстому: что Китти и Левин не могут не лгать друг другу, сперва в мелочах, а дальше — больше… Мефистофель красноречив. Он, пожалуй, до того договорится, что формальное французское супружество — честнее и лучше русского, потому что дальше отстоит от храма, меньше обольщается насчет человеческой нашей природы. Последний же свой довод, самый убийственный, бес у Дарвина возьмет; скажет, что весь этот храм, все эти высокие поползновения совершенно так же запрограммированы в наших генах, как движения самые низменные и в той же мере неизбежные. И добавит: всё это уже было под солнцем; всё идет в одно место… Но мы ему не поверим.
Первый отказ был еще не мне дан, не из ОВИРа получен. Это был мой отказ. Я похерил большую науку, пришедшуюся мне не по карману; согласился на маленькую. В стихах неожиданно тоже оказался возможен минималистский подход. Моя муза сменила валторну на дудочку. «В жизни есть счастье! Много счастья…», — этот минималистский вздох старика Казановы был мною услышан в 1971 году очень вовремя; подоспел кстати. Годы отказа начались полосой совершенно лучезарной, временем счастливейшей легкости и безмятежности.
В декабре 1971 года я участвовал в так называемой конференции молодых писателей Северо-Запада и был там отмечен как молодой да ранний: получил рекомендацию на издание книги моих стихов. Шарман-шарман. За мной дело не стало. В 1972 году я отнес макет книги в издательство Советский писатель, в лапы к чудовищному начальнику поэзии Анатолию Чепурову; одновременно у меня пошли публикации, сперва в провинции, затем в Ленинграде и в Москве. Еще лучше. Я едва верил происходившему; свою внезапную удачливость списывал на столь же внезапную легкость — и расплаты не предчувствовал. В издательстве ко мне отнеслись серьезнее, чем я сам к себе относился: взяли рукопись, назначили редактора, милейшую Киру Михайловну Успенскую. Прочтя, она сделала несколько замечаний явно рабочего толка: как если бы издание книги уже было делом решенным, а я — состоявшимся поэтом, под конец же добавила:
— Город у вас замечательный…
Я вытаращил глаза. Мне казалось, я пишу о себе, а не о городе. Ни одного краеведческого стихотворения у меня не значилось. Серьезность Успенской, ее готовность вникнуть в каждый эпитет, в каждую запятую моего текста — озадачили еще больше, шли дальше всякого вероятия. Я, конечно, не чувствовал себя полным самозванцем. За моими плечами стояла негустая рать людей, признавших и поддерживавших меня; мне было на кого опереться; меня начинали хвалить Глеб Семенов и Александр Кушнер; но одно дело похвалы вперемешку с критикой со стороны пишущих, и совсем другое — вот этот особенный деловой и уважительный тон, взятый Успенской, которая — это чувствовалось с первого слова — настоящий знаток и ценитель, специалист, да к тому же еще закрепленный за мною редактор издательства. И я для нее — реальность!
Но судьба уже стояла за спиной. Три публикации в 1972 году; две в 1973-м; три в 1974; одна в 1975-м (под псевдонимом) — и всё; дверь захлопнулась. Книга в Совписе не вышла, не могла выйти. Дело заглохло в 1974 году, когда, странно вымолвить, уже о подписании договора речь заходила; и приостановлено было по звонку, что Кира Михайловна мне прямо сказала. Рукопись я забрал из издательства в 1978 году, вместе с двумя положительными внутренними рецензиями. С 1981 года у меня начались публикации на Западе.
Чем был вызван звонок? Моей крайней неосторожностью. Я никак не хотел понять до конца, в каком обществе живу. Где-то мне вздумалось говорить без осуждения о недавно уехавшем Бродском. Стихов Бродского я не любил и не хвалил; сказал только, что хоть для себя эмиграцию исключаю, но не вижу возможности отнимать права на отъезд у другого. Говорил в обществе людей чужих, завистливых и доносительных. Забыл на минуту, каким диссонансом звучит для добрых людей моя фамилия. Ну, кто-то и стукнул.
Небо стало стягиваться в овчинку к концу в 1974 года. Защита диссертации откладывалась на неопределенный срок, издание книги (по некоторым признакам) — навсегда. Жена и дочь болели. В коммуналке появилась соседка-шизофреничка, отравлявшая жизнь. Аспирантская вольница кончилась, началась тягостная, тягловая советская служба в вычислительном центре СевНИИГиМа. Стихи пошли на убыль. Я рассорился с литературными друзьями. Денег едва хватало на еду. Жизнь уходила из рук, шла впустую. Спасти могла только религия. Как за соломинку, я хватался за мое половинчатое, недавно обретенное толстовство. Половинчатое потому, что у классика всё держалось на любви к человеку-Христу, впитанной с молоком матери, а у меня и бабка была атеисткой, не говоря о родителях. В шестилетнем возрасте меня ошеломили ее слова, не ко мне обращенные:
— Бога нет.
Я тогда среди бела дня увидел вдруг звездное небо, и в нем — что-то стремительно удаляющееся. О боге я не думал, даже не слышал, а тут вдруг разом понял, что стоит за этим словом; у меня мелькнуло: как было бы естественно, если б он был! Эта картина и это чувство навсегда запали в душу. И всё. Ни одной мысли о Боге до рождения дочери и начала египетских работ в СевНИИГиМе.
Только что возникший вычислительный центр этого квадратно-гнездового учреждения сложился вокруг примитивной ЭВМ армянского производства. Ее название Наири было с намеком, которого в России не услышали: уводило на три тысячи лет вглубь времен, к Тиглатпаласару и Ашурнасирпалу. Армяне исподтишка показывали кукиш молодому «старшему брату»: выдали самоназвание своих предков за русскую научно-инженерную аббревиатуру. Машина была примитивна донельзя. Вместо принтера результаты расчетов выводились на бумагу пишущей машинкой, буква за буквой, а ввод данных шел с перфоленты. Начальствовал надо мною некто Николай Невмержицкий, выпускник мат-меха, уверявший, что он — из любимых учеников академика Юрия Владимировича Линника. Этого не оспариваю, математик он был настоящий, хоть наукой и не занимался. Заглянув в мою диссертацию, отечески хмыкнул, и это тоже пошло в зачет: всё, решительно всё говорило мне, что я конченый человек, ни на что не способный. Вот уж, поистине, бытие определяет сознание! Тягостный, безвыходный быт, социальная придавленность, трешка, которой не хватало до получки, непрекращающиеся болезни тех, кто вверил мне свои жизни, — диктовали эту самоубийственную логику. Не было ни проблеска в конце туннеля; ни тени надежды на примирение с реальностью; ни опоры со стороны родителей.
Невмержицкий был несколькими годами старше меня и убежденный холостяк. Говорил, «сверкнув очами»:
— Тридцать лет, жены нет — и не будет!
С работы отлучался с одной из сотрудниц, явно не в библиотеку. От него я услышал дивную формулу: «основополагающих идей в мире — пять или шесть, остальное — приложения», которую он приписывал старшему Линнику, физику (другие приписывают ее Колмогорову). Невмержицкий был уверен, что качественный скачок в развитии компьютеров осуществится через принципиально новое решение проблемы ввода и вывода данных.
— Скорость ввода-вывода — анекдот рядом со скоростью работы процессора. Кто решит эту проблему, получит нобелевскую премию
Почему-то про носители информации он не думал, а ведь всё было на магнитных лентах. Как они-болезные метались в своих специальных шкафах! Скорость у них была черепашья. А скорость тогдашних процессоров?! Смешно вспоминать. Наша скромная Наири занимала целый машинный зал; было такое выражение. И ни одна живая душа не могла помыслить, что проблема, верно понятая Невмержицким, будет решена с другого конца: что каждый, ученый и толченый, получит по персональному компьютеру, настольному или переносному — и будет вводить данные еще медленнее, вручную. Сейчас Наири под ноготь можно запихать. На очереди компьютеры, встроенные в мозг, — однако ж и этот футуризм может оказаться чепухой, потому что будущее непредсказуемо. Телефон был запатентован в 1876 году. Через год или два нарядные господа и дамы собирались в специальные залы слушать музыку по телефону. Один безумец договорился до полного вздора:
— Я думаю, настанет время, когда телефон будет в каждом городе.
Как над ним потешались!
В детстве Невмержицкий жил в Китае. При возвращении, едва пересекли границу, ему бросилось в глаза, что всюду грязно. Рассказывал он это с каким-то особенным душевным подъемом, а закончил прямо-таки торжествующим возгласом:
— Но я сразу понял: от русской грязи я не умру!
И посмотрел на меня со значением: мол, мне, еврею, не понять. У меня чесался язык спросить его, отчего он, носитель фамилии столь же откровенно нерусской, как моя, противопоставляет свой патриотизм моему. Ибо и я был патриотом. В другие дни я бы возразил, а тут спасовал. Задор мой выдохся. Я был никто и звать никак. Достаточно ли отчетливо прозвучала моя главная беда? Стихи ушли. Гречанка с крылышками забыла меня. Ей был противен мой жалкий быт, моя неудачливость. Я чувствовал себя на стороне обидчика. И сейчас я на его стороне. Невмержицкий оказался прав: не полюбил я русскую грязь. И тогда не любил, а уж дальше — и своею считать перестал.
Потом вычислительный центр расширился и возмужал. Появилась серьезная машина серии ЕС; вместо перфоленты пошли в дело перфокарты. Невмержицкий ушел. Место начальника заступил честный чиновник без индивидуальности и лица, говоривший:
— Обувь — лицо человека.
А я оказался в отделе экономики. В моей служебной карьере это была полная Джомолунгма наоборот, полая Марианская впадина. Делать приходилось вещи, изумительные по своей глупости и пустоте. Математика не шла дальше четырех действий арифметики. Люди числом около двадцати собирали, классифицировали и группировали какие-то сельскохозяйственные цифры. Я обрабатывал эти цифры с помощью мною написанных примитивных компьютерных программ на вымершем языке PL-1. У новой машины был принтер (АЦПУ), выдававший во множестве таблицы с цифрами. Сотрудники, клерки чистой воды, о науке не знали и понаслышке. Несколько скрашивал картину Игорь Дмитриевич Никитин, начальник отдела, человек умный и ироничный.
— Все должны видеть, что делается большая и никому не нужная работа, — приговаривал он.
У Никитина была манера ко всем обращаться по имени-отчеству и на вы, включая девчонок с десятилеткой; другие следовали его примеру. Естественно, и ко мне так обращались — все, кроме одного. Был чудесный человек по фамилии Боровков, всем своим обличьем отвечавший фамилии: боров, и только. До неправдоподобия похожий на приснопамятного Валерия Парфенова, тоже лысый и крупный, он и по главному пункту от него не отличался; не просто не скрывал своего антисемитизма, а именно задирал меня, старался вызвать мое бешенство, — совсем как тот; в частности, всячески давал понять, что ему противно произносить мое отчество. Ну, и результат оказался тем же: стычка в стенах почтенного ученого учреждения, с той разницей, что разнимать нас было некому. Только это прямое рукоприкладство избавило меня от необходимости общаться с ним.
При поощрении Никитина я пытался посеять в институте хоть какие-то семена науки. Помимо программ, которые писал на PL-1, предложил внедрить так называемое линейное программирование, математический метод решения многомерных задач поиска оптимального решения, за который в 1975 году Леонид Канторович из Новосибирска нобелевскую премию по экономике получил. Но оказалось, что цифрами, при их переизбытке, поставленную задачу не обеспечить. В результате мы с Никитиным напечатали какую-то жалкую статейку с голой математической схемой и голыми рассуждениями. На том дело и заглохло.
Была у меня от отдела экономики командировка в Архангельск. За чем? За цифрами. Неделю или две я сидел и переписывал от руки столбик за столбиком. Вот когда я вспомнил былое: физ-мех, упоительные уравнения, диплом с отличием, публикацию под одной обложкой с Колмогоровым, аспирантскую вольницу, мечты о науке… Отчего я не мог всё бросить? Оттого, что был в социальных тисках. Уход из СевНИИГиМа означал для нас прямой голод. Сбережений не было. Жена получала 77 рублей 50 копеек (работала библиотекарем). На это и полмесяца нельзя было прожить. Уйти и начать искать работу я не мог. Искать работу, оставаясь в СевНИИГиМе, было невероятно трудно. Работа более чем ничтожная отнимала, однако ж, силы и время, держала в нервном напряжении.
Но я искал. У матери был приятель Николай Петрович Фадеев, врач и биолог, работавший по части науки в онкологическом институте в Песочной. Он почти поручился, что возьмет меня, наобещал с три короба — вплоть до квартиры (правда, в Песочной) и международных конференций. Однако ж оказалось, что — нет, не выходит.
К железу совсем не хотелось, но я и этот путь испробовал. В каком-то стальном институте мне почти обрадовались, сказали, что начальником сектора поставят; и вдруг опять что-то не сработало. Когда я осторожно спросил: что, ответили мне почти невежливо:
— Ну, вы, наверное, сами знаете.
Похожие мытарства испытывал в эти годы мой приятель Женя Л-н. Из АФИ его взяли в армию офицером. Служил он под Гатчиной, в военной части 03214 (остановка Борнинский лес); я у него побывал. Когда он отслужил и пришел в АФИ, Полуэктов прямо сказал ему, что взять его назад он обязан, но уволит Женю при первом же сокращении — и очень скоро. Женя принялся искать работу не на жизнь, а на смерть. Испробовал все пути. В отличие от меня ничем не брезговал. Всюду получил от ворот поворот. Наконец, отправился в партийный орган, райком или горком. Там сказали: не волнуйтесь, поможем! Человек сел за телефон прямо в присутствии Жени и положил перед собою список. В одно место звонит, в другое, в третье…
— А вот сюда, — говорит Женя и тыкает в название учреждения, — не звоните. Там евреев не берут.
— Ах, да! — спохватился человек. — Я и забыл…
Советский антисемитизм был в особенности противен тем, что оставался прикровенным. На поверхности была повальная дружба народов… Рассказывают, что в пятидесятые годы слухи об антисемитизме в СССР дошли до французской компартии. Оттуда прислали эмиссара. В ЦК КПСС его приняли как надо, дурного не ждали. Сказали: нет проблем; мы вам встречи с народом устроим; уже устроили; вас ждут на таком-то заводе, в таком-то институте. Эмиссар говорит: не нужно мне встреч с народом, я там только в отделы кадров загляну и цифры получу. Вокруг него запрыгали от радости. Еще лучше! Уж с этим-то у нас тишь да гладь, да божья благодать. Пожалуйста! И он сходил в два-три места по приготовленному списку. Приходит и спрашивает: сколько у вас евреев работает? Улыбающийся отдел кадров ему на блюдечке: а вот, извольте; сотрудников столько-то; евреев столько-то. Эмиссар вернулся через два дня и доложил в Париже: антисемитизм в СССР носит повальный, зоологический характер. В самом деле, чтобы выяснить, сколько евреев работает на Ситроэне или в Ecole Polytechnique, нужно социологическое исследование проводить. А тут каждый на виду, с биркой.
Повторю до оскомины: не только в антисемитизме состояла проблема. Ленинград, я убежден в этом, держал первое место в мире по перенасыщению людьми интеллектуальных профессий. Местов не было. Автобус — не резиновый. Но, конечно, сразу вслед за теснотой шел, по своему значению в качестве препятствия, пресловутый пятый пункт советского паспорта. Повторю и другое: будь я первоклассным, целеустремленным специалистом хоть в чем-то, место бы нашлось. Но я повредился на стихах, а музы ревнивы, и время не благоприятствовало универсализму. В том же проклятом СевНИИГиМе взяли в вычислительный центр мальчика по фамилии, ни больше ни меньше, Раппопорт. Португальская, по некоторым признакам фамилия, и мальчик был сефардийского вида, с густой шевелюрой, веселый и самонадеянный. Он за три месяца справился с задачей, над которой упомянутый Виталий Кулик просидел несколько лет, да так и не решил до своего отъезда в Австралию; а ведь про Кулика точно было известно, что он хороший ученый…
И вот он настал, этот момент. Точка омега, так сказать. Весь ужас собрался в фокус. Жить, как мы жили, дальше стало нельзя. Эта жизнь закончилась. Можно было думать только о смерти — или о другой жизни; любой, но — другой. Об отъезде. В огороде бузина, в Израиле — дядька. Семь бед — один отъезд.
Если б не Таня, никогда бы я не решился. Как порвать с русской культурой, с родным языком, родным городом? Я попросту не понимал уезжавших. Когда в 1974 году прослышал, что уезжает Витя Янгарбер из АФИ, изумился до крайности — и поехал к нему в гости: расспросить. Узнал массу неожиданного. Всё было в диковинку. Приехал домой с рассказами; не успел рассказать и половины, как моя жена скандинавских кровей говорит мне:
— Давай закажем ему вызов!
Я чуть стакан не проглотил, но выслушав ее, согласился и позвонил Янгарберу.
Лишь в 1977 году, после трех лет ожидания, мы с Таней получили первый вызов. Три года вызов не приходил. Заказов было сделано с десяток. Потом, в израильском министерстве иностранных дел, мне показали заведенную на меня папку: мне выслали не менее дюжины вызовов. Почему не доходили? Бог весть. Мы с Таней оба по паспорту были русские. Таня некоторое время работала в первом отделе университета. Но всё это чепуха. Не доходили, потому что не доходили. Очень часто никаких разумных причин у тогдашней власти не имелось; капризная была власть, хоть и бездарная. Женьку Л. отпустили сразу после того, как он два года отслужил офицером в ракетных войсках.
Мы с Таней сразу сходили в ОВИР и взяли анкеты. Тут включились мои родители, точнее, мать. Поняв, что я не уступлю, она схитрила: начала уговаривать сперва защититься, а потом уж ехать. Таня заколебалась. Будешь, говорила она, всю жизнь жалеть, что не довел дела до конца; комплекс навсегда останется. Мои оппоненты, ничего про наши отъездные планы не знавшие, тоже подыграли. Белянин в Красноярске забрал мой отказ из совета, а мне написал, что моя диссертация — первая на очереди, и чтоб я не делал глупостей. Калер из Минска, решив, что мне не нравится красноярский совет, обещал договориться в Москве. И я смалодушничал.
Если и верно, что у них правая рука не знала, что делает левая, то уж не в этом деликатном деле. Тут все всё знали. Когда я отправился в Красноярск на предварительную (sic!) защиту, к Тане приходили и прямо спрашивали: едете или не едете? И кто спрашивал?! Участковый милиционер. Теперь попробуйте вообразить, что не знали в СевНИИГиМе. Едва я защитился, Никитин (между прочим, член партии и чуть ли не парторг) перевел меня из младших научных сотрудников в руководители группы (хоть группы и не было) с повышением в зарплате со 120 рублей… до 175-и. Когда я сказал теще, что мне повысили зарплату, она спросила безнадежно:
— Двадцатку-то хоть прибавили?
Услышав ответ, она села и утерла пот со лба. А поэтесса Зоя Эзрохи — та даже стихи написала на это событие. Еще бы! Тут был не только выход из беспросветной бедности, тут был чуть ли не иной социальный статус.
Всего в апокалиптическом учреждении я состоял шесть лет, с 1974-го по 1979-й включительно, а если причислить сюда еще и аспирантуру у Бабы-яги, то полных двенадцать лет. Больше я проработал только на русской службе Би-Би-Си (о которой доброго слова не скажу).
Скрашивал мне эти квадратно-гнездовые годы Сеня, Семен Моисеевич Белинский, тот самый математик из лаборатории Циприса. Иногда мы сходились на черной лестнице СевНИИГиМа и говорили о нашем безнадежном деле. Потом начали общаться теснее, бывали друг у друга в гостях. Бедняга многие годы мечтал об отъезде — и всё, всё понимал про эту страну задолго до меня. На его умном и грустном лице словно тень какая-то лежала. Ехать он почему-то не мог. У него было двое маленьких детей, оба мальчишки. Жену его, Раю, тоже математика, вижу сейчас только в переднике, на кухне, а она, между прочим, одну из проблем Гильберта решила (достижение головокружительное). Сеня умер в 1983 году, от саркомы. Не дожил ни до свободного выезда, ни до новой России с полонием. В числе других сотрудников СевНИИГиМа я хоронил его. Над его гробом кто-то из начальников произнес:
— Он всю свою жизнь отдал делу мелиорации.
У меня сердце сжалось. В одной этой фразе — весь СевНИИГиМ, весь советский режим как в капле воды. Пошлость захлестывала и по временам переходила в подлость. На одной институтской политинформации выступал как-то райкомовский лектор: поносил Сахарова. Я не выдержал и вышел из зала, никому не сказав ни слова. Естественно, товарищи обратились к Никитину. Что он сделал? Сказал товарищам: у Колкера — машинное время, он должен был уйти; выгородил меня, а с глазу на глаз отчитал в таких словах, что чувствовалось: он скорее со мною, чем с ними. Сейчас я допускаю, что он меня персонально опекал, по заданию, но всё равно я ему признателен. Он понимал: протестовать бессмысленно. И я понимал. Понимал, да срывался.
Второй срыв произошел дома. Приносят повестку на всенародные выборы; разносили такие повестки на нашем избирательном участке младшие сотрудники Большого дома, что на Литейном; я говорю вестнику, что голосовать не пойду. Тот не удивляется и не возражает, даже в лице не изменился, только пометил что-то в блокноте. А через день меня под каким-то предлогом понизили в должности, перевели назад из руководителей группы в научные сотрудники.
В 1978 году я-таки защитился — и около года ждал диплома. Дождался (был утвержден ВАКом — это при том-то, что мы уже засветились), опять начал готовился к прыжку, но тут слегла Таня. Ей дали вторую группу инвалидности. Казалось, на отъезде нужно поставить крест. Здоровье возвращалось по чайной ложке. Однако в декабре 1979 года грянул гром: началась афганская война, и я решил: больше откладывать нельзя. Подлость режима достигла критической массы. Танки едут прямо на нас и сейчас раздавят. Мысль моя не успевала оформиться, я руководствовался чувством; не понимал, как будем сводить концы с концами, не знал, куда сунусь. Знал: нужно выйти из общества добропорядочных советских людей, уйти с работы и добиваться отъезда любой ценой. При полной поддержке со стороны Тани я уволился из СевНИИГиМа, и мы с нею (я — безработный, Таня — на костылях) сходили в ОВИР. Был январь 1980 года. В ОВИРе нас там встретили совсем не так, как в 1977-м…
У Тани с юности было слабое здоровье; врожденный дефект позвоночника; и не только это. Нашу единственную дочь Лизу она едва доносила; половину срока беременности провела в больницах. Навещать Таню было нельзя; в больницы, странно вымолвить, не пускали. Странно потому, что на Западе даже при родах разрешают присутствовать близкому человеку.
Однажды нянечка приносит в палату передачи.
— Колкер, — говорит она, — это вам, — и протягивает пакет таниной соседке, ярко выраженной еврейке. Та была женщина бойкая и ответила бойко:
— Я — Петрова, а Колкер — вот она! — И ткнула пальцем в свою бледную соседку внешности самой скандинавской.
Больницы были единственным местом, где фамилия иногда помогала Тане. Среди врачей традиционно много евреев, а стиль советской жизни прямо-таки предписывал протекционизм, явный и неявный, даже подсознательный; он был в крови у всех и каждого. Еще Кюстин писал, что коррупция облегчает жизнь при автократии, и писал как раз в связи с Россией. Как объяснить британцу или американцу, что в России фамилия позволяет отличить еврея от не еврея? Попробуйте — вам не поверят. Попробуйте объяснить, что чернь причисляет к евреям вообще всех, чья фамилия указывает на Запад, а не на Восток. Писателя Вадима Шефнера многие держали за еврея, что едва не стоило ему жизни в страшные годы, когда готовилось дело врачей. (И было, от чего держать; в друзьях-то у него ходили поэты Александр Гитович и Владимир Лифшиц.)
В сущности, чернь права, инстинктивно причисляя всех чисто одетых и думающих людей к евреям. Евреи, так уж случилось, задали стиль жизни советской интеллигенции. На заре большевизма еврей был бедняк и простолюдин, то есть свой, а уцелевшая потомственная интеллигенция — бывшие, буржуи, чужие. Через пять-десять лет простолюдин получил высшее образование. Ко времени взросления его детей и внуков, тоже образованных, большевизм переродился, интернационализм слинял в национализм, и явилась изумительная Екатерина Фурцева, министр культуры. Она обессмертила себя и советскую культуру в ходе одного зарубежного интервью. Ее спросили:
— Отчего у вас выгоняют из лабораторий физиков еврейского происхождения?
— Теперь у нас есть свои кадры, — ответила эта гениальная женщина.
Фурцева не понимала, почему ее с особой теплотой принимают в Германии. Нет-нет, антисемитизм здесь ни при чем. Немцы умилялись ее фамилии, явно происходящей от der Furz, от порчи воздуха. Бедняжка так и умерла, не поняв.
Девятнадцатого марта 1979 года Таня позвонила мне с работы в слезах: очень болит спина, не могу двигаться, приезжай и забери меня. Работала она около площади Александра Невского, на Синопской набережной, 14; заведовала профсоюзной библиотекой ленинградского телеграфа. Зря никогда не жаловалась, без горя не плакала; а всё-таки я не думал застать ее в таком состоянии: она не могла ходить. Что случилось? Поскользнулась в комнате, где только что вымыли пол. Я на руках донес ее до такси, на руках поднял на третий этаж на Шпалерной; вызвал врача. Участковая врачиха по фамилии Розенфельд была в отпуске. Может, она бы спасла? Не знаю. Явилась дежурная врачиха, ее заменявшая; сказала:
— Радикулит у всех, — и выписала больничный лист на три дня: — Через три дня приходите.
Таня, как на грех, терпелива. Три дня прошли в непрерывных муках. Она не могла ни спать, ни есть — отчасти от боли, отчасти оттого, что была не в состоянии дойти до сортира. Постоянно меняла позу, чтобы унять боль, и стерла в кровь колени, локти и уши. Я позвонил в поликлинику. Находилась она не близко: на Чебоксарском переулке, между Екатерининским каналом и малой Конюшенной. Врачиха, явно недовольная, явилась опять и, как в насмешку, слово в слово повторила свою прежнюю программу:
— Через три дня приходите.
Она не понимала, что у Тани отнялись ноги; что Таня парализована ниже пояса. Я тоже не понимал, я в медицине не смыслю, — а Таня ничего не понимала от боли.
Связей в медицинском мире у нас не было. Точнее, у нас вообще не было связей, — это в советской-то России, где всё держалось на блате… Сколько раз потом я удивлял своих собеседников, среди причин нашей эмиграции выставляя и вот этот специфический пункт: наше с Таней неумение и нежелание пользоваться протекцией, мое неприятие привилегий. Перед законом и перед рублем — все должны быть равны, твердил я себе и другим. Перед страданием — тоже; в особенности, в первую очередь перед страданием. В студенческие годы мне рассказали анекдот. Приходит Капица в поликлинику, а там очередь. Он говорит: — Я — Капица, — и проходит без очереди. Тут рассказчик начинал захлебываться: «А какой-то работяга, вы подумайте, возмущается и кричит: — Ну и что?! А я — Иванов!» Полагалось смеяться. Петр Леонидович Капица — один из величайших физиков-экспериментаторов всех времен и народов, человек масштаба Фарадея и Ампера. Но мне было не смешно, я был на стороне Иванова — я и сейчас на его стороне. Есть две сердобольные профессии: врач и адвокат. Обе имеют в виду помощь несчастным — и обе в каждом поколении привлекают в свои ряды умных людей, не в последнюю очередь думающих о своем кармане. Вот еще один анекдот. Почему акулы не едят адвокатов? Из профессиональной этики… Но разве то же самое нельзя сказать о дантистах и о хирургах-онкологах?
Корпоративные привилегии тоже всегда были мне противны. В 1994 году судьба свела меня с удивительно одаренной молодой женщиной-врачом, родом с Украины. Она чуть ли не первой из числа советских выходцев прошла в Британии все ступени медицинской иерархии и в итоге сделалась консультантом, что соответствует профессорскому уровню. Но все ее достоинства, а с ними и наша дружба, несколько померкли в моих глазах после того, как я услыхал от нее, что врач, попадая в больницу как пациент, может и должен иметь преимущество перед другими пациентами. Этот подход казался мне, и сейчас кажется, обывательским отрицанием клятвы Гиппократа.
Можно спросить: до конца ли честна эта моя принципиальная позиция? И не антисемитский ли это подход, если вглядеться? Может, будь у меня связи, я преспокойно бы ими пользовался? Может быть. Пожалуй, что и так. Принадлежать к обществу взаимопомощи — великий соблазн, одна из личин счастья. Человек — общественное животное. Одному трудно. Я больше скажу — и Кюстина дополню: советское диссидентство возникло из коррупции. При Сталине сын доносил на отца, отец на сына. Общества не было. Гнет раздавил его до атомарного, до плазменного состояния. Уцелела одна-единственная тонкая структура: еврейская семья. Сталинские евреи и евреями-то себя не считали; они были советские люди; а что-то им всё-таки мешало, и отец на сына не доносил — или доносил реже. Отсюда и пошла кристаллизация. Возникли круги людей, друг другу доверявших, на втором этапе — без оглядки на этнос. Возникло нравственное сопротивление. Но что же это было с точки зрения преступного государства как не коррупция?
Прошла неделя. Я, наконец, начал догадываться, что Таня попросту умирает. Мне удалось пробиться к главному врачу поликлиники. Тот сообразил, в чем дело, и послал к Тане невропатолога; невропатолог немедленно вызвал скорую. Таня попала в больницу имени 25-го Октября, известную тем, что туда со всего города свозили подобранных на улицах пьяниц с травмами. В приемной ее кое-как переодели в больничное. Проходит час, является медсестра или нянечка:
— Где тут Колкер? Вы? Ну, пойдемте…
— Я не могу идти, у меня ноги отнялись.
— А! Ну, подождите.
Проходит час, история повторяется. Еще час — тоже самое. Таня мерзнет на клеенчатом топчане; боли не прекращаются ни на минуту, а она в казенном месте, одна. По прошествии шести часов являются два мужика с носилками:
— Перелезайте.
Она кое-как поднялась на руках, таща за собою ноги. Эти двое с довольным видом наблюдали и комментировали (мат с винным перегаром)… Говорят, это Ницше придумал: споткнувшегося подтолкни. Неудивительно: немец, человек жестокий. Чего ждать от немца? А русские — люди добрые, задушевные, сердобольные, и всё это из народа идет. Отчего же это у иных русских из народа глаза частенько загораются таким сладострастным вдохновением, едва появляется возможность безнаказанно помучить слабого, поиздеваться над беззащитным? Эти двое, таща носилки с Таней, специально встряхивая их время от времени, чтобы послушать, как жертва стонет.
— Они там… — следует глагол татарского происхождения, который я и в быту не произношу, — а мы их носить должны!
Таня оказалась в палате на 25 человек. Под простыню ей подстелили клеенку. Ухода не было никакого. Я взял очередной отпуск в СевНИИГиМе, отвез пятилетнюю дочку к теще на Ланское шоссе и стал ходить в больницу, как на работу: менял Тане белье, переворачивал ее время от времени, выносил судно — и не только за нею, а и за половиной палаты; мыл палату; когда Таня смогла есть, приносил из дому еду и разогревал на кухне. А медицина не дремала: Тане, одну за другой, делали пункции, брали на анализ межпозвоночную жидкость. Мучительнейшая процедура. Зачем делали? Не нам судить; так нужно; без этого неясно, где резать. Когда операция? Подождите; в свое время; есть больные более тяжелые. Не верить врачам было немыслимо, они ведь врачи. Что защемленный нерв за 2 недели отомрет и никогда полностью не восстановится, нам не сказали. Поторопить дело — дать взятку — мне и в голову не приходило. Денег, положим, не было, но можно было взять в долг. Самое естественное в советском раю движение, понятное всем и каждому, висевшее в воздухе, — оказалось мне не по мозгам.
Наконец, объявили, что будут делать Тане — нет, не операцию, а пункцию с вдуванием кислорода, о которой прямо сказали: «придется потерпеть». Будто она не терпела семь дней дома и шесть дней в больнице! Будто не теряла сознания от обычных пункций! Привезли ее в операционную, переложили с каталки на стол. Она готовится к худшему. Тут прибегает врачиха и говорит буквально следующее:
— Не нужно делать пункцию, снимок очень отчетливый.
Рентгеновский снимок был сделан в первый день. За шесть дней никто не удосужился его посмотреть.
Наконец, свершилось: сделали операцию; положили Таню в реанимацию (меня, естественно, туда не пустили) — и забыли о ней, а она после наркоза голос потеряла, позвать не может. Зачем позвать? Во-первых, боль была нестерпимая — потому что добрые люди умудрились положить ее на кровать с поднятым изголовьем, и это — после того, как резали позвоночник и удалили межпозвоночный диск! Нарочно не придумаешь. Пытка. В таком положении она провела сутки, до моего прихода… Во-вторых, пить очень хотелось, а сама она не могла до стакана дотянуться. Стакан с водой ей поставили, он был тут, рядом, но всё равно что на Аляске. Он даже и пригодился, только не Тане. В реанимации она провела часа два, потом кровать выволокли в коридор на двадцать часов — и тут из ее стакана попила проходившая мимо больная, по стечению обстоятельств, сифилитичка.
Сеня Белинский как-то сказал мне:
— Оглядываюсь на свое прошлое и вижу: положения, казавшиеся безвыходными, имели самый простой выход, наглядный и очевидный. Я проламывал стену, а рядом была открытая дверь.
Так и тут: операцию вообще можно было не делать; диски — вправляют. Незачем было Тане становиться инвалидом на всю жизнь; да и врачи, будь у них совесть… впрочем, откуда ей взяться?
В другом углу палаты женщина умерла от пролежней; некому было за нею ухаживать, переворачивать (для парализованных это не только облегчение, это потребность). В связи с этим Таня потом говорила, что я спас ей жизнь, — но не моя ли вина в том, что дошло до операции и что операцию сделали поздно?
Началось выздоровление. Через месяц, опираясь на меня, она сделала первые шаги, но еще не могла сидеть. Вся палата следила за этим танцем.
— Такой муж жену выходит, — сказала одна.
Добрая советская власть направила Таню в Сестрорецк, в реабилитационный центр, чуть ли не лучший (говорили нам) в СССР. В больнице имени 25-го Октября отпускалось на больного по 56 копеек в день — на еду и лекарства (болеутоляющие приходилось покупать и приносить в больницу самим); в Сестрорецке — в такое едва верилось — отпускали целых 2 рубля 50 копеек. Провела там Таня полных три месяца — и совершенно бесплатно. Были всяческие процедуры. Сперва Таня ездила в каталке, потом стала понемножку ходить на костылях. Наступило лето. К окнам пятого этажа подлетали чайки и на лету ловили кусочки хлеба. В Сестрорецке мы впервые в жизни увидели пандус и услышали слово пандус.
Там наблюдалась и некоторая общественная жизнь; среди больных попадались интересные люди. Был турецкий коммунист с пулевыми ранениями, пострадавший в Турции за правое дело. Он хорошо говорил по-русски, но Таня подружилась с другим: с пенсионером, архитектором-реставратором Михаилом Азарьевичем Краминским. Интеллигентнейший оказался человек, из бывших; лично, хоть и не близко, знал Ленина (чем гордился); приятельствовал с Эйзенштейном… и, однако ж, уцелел, дожил до старости. Редкое дело. Еще удивительнее было другое: его родственники жили за границей, сестра в Париже, брат в Британии, двоюродный брат — в Швейцарии, — и как жили? как эмигранты, со времен первой эмиграции. Михаил Азарьевич переписывался с ними — и, вообразите, получал от сестры письма, на конвертах которых значилось не Leningrad, L'Union Sovietique, а Saint-Petersbourg, La Russie. Доходили!
Михаилу Азарьевичу не только переписываться разрешали, а и ездить в гости к родным. Это плохо укладывалось в сознании: и возможность выехать, и — еще больше — то, что он, выехав, возвращался. Мы поделились с ним нашими планами на отъезд. Тут настала его очередь удивляться. Как? Уехать из Ленинграда?! А уж он-то, всюду побывавший, мог бы понимать… В Сестрорецк он попал, можно сказать, из Швейцарии. Точнее, в Швейцарии, много лет назад, он угодил в автомобильную, аварию, дверцей машины ему раздробило бедренную кость; машина, естественно, была застрахована; операцию сделали в лучшей больнице; но прошли годы, металлическая пластинка, наложенная на кость, отжила свое, и пришлось делать новую операцию, на этот раз — на родине… Очень сильное впечатление произвело на нас описание больницы: отдельная палата, меню на завтрак, обед и ужин. Было видно, что и рассказчик-патриот этими воспоминаниям упивается, предаётся им с некоторой мечтательностью.
После больницы мы с Таней навещали его в его квартире на Петроградской, на улице братьев Васильевых. Помню большие и просторные комнаты, числом две или три, но квартира была коммунальной.
— Это была маленькая квартира моей матери, — вздыхал Михаил Азарьевич.
Одну из старинных картин своей коллекции живописи он осторожно приписывал Вермееру (чьих работ, как известно, нет в Эрмитаже).
С Эйзенштейном Краминский в юности учился на каких-то курсах и всю жизнь хранил кипу его случайных рисунков, сделанных от скуки, во время разговоров, на клочках бумаги и папиросных коробках. Выйдя на пенсию, Краминский решил их опубликовать, но не знал, как приняться за дело, и позвонил — Ираклию Анроникову. Поразительно! Поразительно то, как человек вполне ничтожный и безмысленный, обладавший только даром площадной клоунады, приобрел в ту пору в Советском Союзе репутацию ученого, писателя, культурного деятеля. Лауреат ленинской и государственной премий, знаменитость почище Аллы Пугачевой — и полный скоморох, полная душевная пустота. Тут, конечно, во мне антисемит проснулся. Ираклий Луарсабович был родом из евреев… Ей-богу, Краминский мог обратиться к другому человеку. Были в ту пору порядочные люди. Услыхав, о чем речь, Андроников немедленно приехал. Когда увидел рисунки, руки у него затряслись, глаза загорелись.
— Сколько вы хотите за это? — спросил он.
— Я ничего не хочу, — ответил Краминский. — Денег мне не нужно. Вы только упомяните при публикации, что получили рисунки от меня.
— Конечно, конечно, — заверил его Андроников. И солгал. Украл; не упомянул.
От Краминского я получил сокровище: две парижских книжки Зинаиды Шаховской (Отражения и Силуэты русских писателей), с ее воспоминаниями. Я как раз начинал заниматься Ходасевичем, а его Зинаида Алексеевна знала лично и написала о нем. Краминский виделся с нею в Париже и дал мне парижский адрес Шаховской…
В больнице Таня сказала мне странные слова:
— Бросай меня. Таких бросают.
Она думала, что навсегда перестала быть женщиной. Чувствительность не возвращалась. Но для меня супружеская верность была знаменем, под которым я собирался умереть, не сдаваясь гнусной человеческой природе. Как раз тогда мне удалось раздобыть и принести ей в больницу мумиё — и плод граната, зерно которого издревле считалась ягодой Филемона и Бавкиды.
После реабилитационного центра Таня уже могла ходить без костылей, с палкой. Могла — и не могла. Нечувствительность означала недержание. Из дому выйти было нельзя, гостей принимать — тоже нельзя. Прошло несколько месяцев. Случайно выяснилось, что в нашей поликлинике на Чебоксарском переулке имеется иглотерапевт. Таня записалась к нему — к ней, врач была женщина с очень еврейской фамилией Гаркави.
— Что ж вы ко мне сразу-то не пришли? — упрекнула она Таню, и за несколько сеансов вернула ее к жизни.
Вполне Таня так и не оправилась. Хромота на правую ногу осталась навсегда и потом привела к еще одной операции.
За два года до этого ужаса был другой, почти сопоставимый. Зимой, на скользких мостках через какую-то городскую канаву, Таня упала не без помощи одного прохожего. Она была на пятом месяце беременности. Воды отошли, но немедленная помощь могла бы спасти ребенка. В больнице имени Куйбышева (Мариинской) врачи продержали ее семь часов в холодном приемном покое, что, в сущности, было сознательным убийством; ведь диагноз-то был известен. Ладно. Одним ребенком больше, одним меньше. Бабы новых нарожают. Но это не всё. В халате на голое тело ее провели по двору из приемного покоя в отделение при пятнадцатиградусном морозе. На следующий день температура у нее поднялась до 41 градуса, и уже не ребенка, а ее пришлось спасать. С этой задачей доблестные советские врачи справились.
В январе 1980 года мы явились в ОВИР на улицу Чехова со свеженьким вызовом, в котором всё было по-русски, особенно имя: Шемен Хавацелет. Проклятые евреи! Слова в простоте не скажут. Что за имена!
Как раз незадолго до этого в Ленинграде вышло распоряжение: принимать документы на отъезд только к прямым родственникам: отцу, матери, брату или сестре. Я решил, что мы поедем к брату Семену. Шемен — в этом нельзя было усомниться — имя; по нашему Семен. Ну, а Хавацелет, разумеется, фамилия… Вам смешно? Мне тоже. А тогда не до смеха было.
В годы эмиграции меня как-то спросили, на каких условиях я был бы готов вернуться в Россию. Я выставил три условия, гордых и метафорических:
(1) когда слово родина станут писать со строчной буквы, а слово Бог — с прописной;
(2) когда на почтовом конверте станут писать сперва имя, затем улицу, город, и на последнем месте — страну;
(3) когда всюду, кроме именных указателей, имя собственное (или инициалы) станут писать перед фамилией.
Смысл этой программы прозрачен: на первом месте должен быть человек. Она устарела. Спрашивали меня в 1980-х. Что за углом — новая катастрофа, никто тогда и вообразить не мог. Долгожданная свобода словоупотребления, наступившая в 1990-е, изменила русский ландшафт. Народное словотворчество оказалось хамским, холуйским. Моя тогдашняя программа устарела вот почему: мне нечего делать в стране, говорящей на испорченном американском; в стране, где управляющий стал топающим менеджером, манекенщица — топающей моделью, а убийство может шокировать.
Занятно, что часть этой горделивой программы с тех пор осуществилась. Почтовое ведомство перешло на мировой стандарт, и Бога частично реабилитировали. Но худшее удержалось: языческого божка, родину, фетишизируют по-прежнему — и даже с новой силой. Христианство остается в тени идолопоклонства, Бога — воспринимают и понимают только через квасной патриотизм. Так и говорят: «послужить Богу и отечеству».
Что до порядка написания имени и фамилии, то это — выбор между Европой и Азией. Я не против Азии, я — за Европу. Азия, до тех пор, пока она в Азии, по-своему хороша, а в Европе, прикидываясь Европой, часто становится карикатурной. На Дальнем Востоке родовое имя значит больше личного; так повелось с глубокой древности; в Европе — на первом месте человек и его имя собственное. Только венгры, позже других пришедшие в Европу, не преодолели своего дальневосточного наследия, держатся азиатского порядка имени и фамилии (их родственники эстонцы и финны с этим справились). В России, где сталкиваются Европа и Азия, сталкиваются и враждуют два способа графического истолкования имени. Культурная часть населения (крохотная) держится европейского порядка, прочие — азиатского… Откуда мне было знать, что и в Израиле происходит то же самое?! Я верил, что уж там-то — Европа. Но, видно, география берет своё — или, можно допустить, сказалось влияние России: ведь пионеры освоения Палестины в начале XX века были в большинстве своем выходцами из России. А сталинские евреи 1947 года? Израиль никогда бы не появился на географической карте, если б не поддержка Москвы. Сталин надеялся превратить эту страну в советскую республику, оттого и отпускал. Ну, и последующие волны репатриантов из СССР сказали свое веское слово. Короче говоря, Шемен — это была фамилия, а Хавацелет — имя, притом женское. Оба слова значащие и даже переводу поддаются. Вызов был от Лили Масловой (шемен — масло, хавацелет — лилия). Вот вам и брат Семен. В огороде бузина, в Израиле дядька… А я ведь и письма брату Семену писал, проникновенные, за сердце хватающие: «Дорогой брат Семен, во первых строках моего письма сообщаю тебе…»; что-то в этом роде.
Анкет в районном ОВИРе нам не дали. Я записался на прием в городской ОВИР на Большой Конюшенной улице, дом, если память мне не изменяет, 27. В ту пору это была улица Желябова, в честь героя-народовольца, жизнь положившего, чтобы вернуть Россию в Европу методом самым азиатским: убийством из-за угла. Фамилия, кстати, очень азиатская; однокоренная с Челябинском; и тоже, как в случае с Лилей Масловой, значащая. Чаляб по-тюркски — ученый, а джаляб — проститутка; заметьте, что корень, в сущности, один и тот же; прочтение разное, а значение близкое: оба — познавшие.
В городском ОВИРе, спустя неделю или две, меня принял и выслушал не начальник (В.П. Боков), а его заместитель. Сказал то же, что и в районном ОВИРе было сказано: здесь у вас реальные родственники, а там — какие-то мифические, что была сущая правда. Заключил свое нравоучение фразой:
— Ваш поезд уже ушел.
Получалось, что даже сесть в отказ по новым правилам — проблема. Сесть в отказ, стать отказником — это был общественный статус. Мы стали его добиваться. Ни на минуту не допускали мысли, что, добившись принятия заявления на выезд, сразу получим разрешение. Нужно было встать в очередь. Отказницкое правило гласило: раньше сядешь — раньше выедешь.
Я начал писать в разные инстанции: в Москву, начальнику всесоюзного ОВИРа К.И.Зотову, потом еще куда-то; наконец — на высочайшее имя: Брежневу. Параллельно мы подписывали всяческие коллективные письма, причем иные мне приходилось (по просьбе вождей отказа) редактировать. Время для этого было: я уже работал кочегаром.
В апреле произошло неожиданное. Звонят из СевНИИГиМа, из бухгалтерии; говорят: при расчете мы вам недоплатили, приходите забрать деньги. Я отвечаю, что зайду завтра. Мне возражают: нет-нет, только сегодня и к такому-то часу. Делать нечего, прихожу. Бухгалтерия засуетились; говорит: посидите, мы сейчас. Сидел я довольно долго. Тётки, числом три, считают, на меня не смотрят. Наконец, входит чисто одетый господин без лица, обводит комнату глазами, на мне взгляда не останавливает, спрашивает: а где Колкер? Не заметил меня. И мудрено было. Я-то, в отличие от него, одет был не совсем чисто: драный короткий тулуп, так называемая альпаковая куртка с мехом вовнутрь, лендлизовская, ее еще отец в годы войны получил. А главное — русые волосы и русая борода; вид антисемитский, не еврейский.
Отвели меня в комнату, о существовании которой я и не подозревал. Там еще один господин оказался. Предъявляют мне стопку моих стихов в машинописи и говорят: что ж это вы вождя мирового пролетариата поносите? За это полагается три года по статье 190(1). Я не в первый момент понял, о ком речь. Было у меня что-то не совсем почтительное о Ленине:
|
Кровью смочена, желчью и водкой Наша жизнь — оттого и смердит. Чингисхан, монголоид с бородкой, Ухмыляясь, с портретов глядит. |
Было и другое: «Идеи Ленина живут и побеждают. Им, чтобы выжить, нужно побеждать…» Но это к ним не попало. И вождь оказался другой — к моему изумлению. Попала к ним шутка:
|
Ах, товарищ Лёня, Леонид Ильич! Я — овца в загоне, Ты — вселенский бич. Не гляди так строго В душу с высоты. Погоди немного, Отдохнешь и ты. |
Побочный продукт. Уж и не знаю, как это могло попасть. Загадка. Я, помнится, только серьезные стихи раздавал. Отвечаю:
— Машинка — не моя.
— Знаем, знаем, — говорят литературоведы в штатском. — И опечатки не ваши. — (Здесь, может быть, они были не правы.)
Слово за слово. Я им сказал, что намерен уезжать; пожаловался, что заявление на эмиграцию не принимают; они, естественно, отвечают: это не к нам. Смысл беседы сводился к предупреждению; была такая мера пресечения. На прощание потребовали, чтоб я этой беседы не разглашал. Выйдя из зазеркалья, я тотчас сообщил о беседе Леопольду Эпштейну, оказавшемуся в Ленинграде. Его сестра была связана с Хроникой текущих событий, где и появилось крохотное сообщение в две строки: такого-то числа поэта Юрия Колкера вызывал на допрос КГБ. Тут неточность: допроса не было, протокола не велось. Примерно через год я получил вырезку из Хроники — и как? В письме из Германии, пришедшем по почте!
Профилактическая беседа потребовалась гэбистам потому, что в 1980 году ожидалась московская олимпиада и с нею приток иностранцев. Меня и прочую мелочь только пугнули. Людей более значительных вынуждали уехать (мы в ту пору говорили, что их высылают, но это не совсем правильно); вынуждали и тех, кто никуда ехать не собирался: например, физика и правозащитника Юрия Меклера.
Осенью 1980 года, хоть поначалу мне и не хотелось этого, я окунулся в отказницкие круги: стал ходить на квартирные лекции по еврейской культуре и истории, собиравшие до 50 человек. Было время консолидации отказников, которых вдруг стало много. Бороться (и погибать) легче в коллективе. Люди поддерживали друг друга, обменивались письмами оттуда — в точности, как в моем пуримшпиле, написанном в 1983 году:
|
Открывай поскорей! За дверями еврей. Он нам письма принес От родных и друзей. |
Ходил я и на курсы иврита, тоже квартирные, но (в отличие от лекций) не бесплатные. Откуда брались деньги на иврит — при нашей-то бедности? А вот откуда: появились гости из свободного мира с подарками на продажу. Мучительнейший момент: брать или не брать? Пришлось брать, преодолевая стыд. Другого бы гости не поняли, да и не прожить было на кочегарские 110 рублей до вычетов. Привозили мелочи (вроде недорогих диктофонов или золотых цепочек) и не мелочи: фотоаппарат никон стоил тогда до 1000 рублей; это означало пять месяцев жизни для семьи. Впрочем, дорогие вещи привозили обыкновенно не одному человеку, а на группу. Для нас с Таней настоящим сокровищем стал американский аппарат для измерения давления крови (после операции Таня сделалась гипертоником). Кроме гостей случались еще и посылки из еврейских благотворительных фондов, обыкновенно с одеждой.
О еврейской культуре и жизни, вообще о еврействе, я знал постыдно мало. Входить в этот мир, повторю, совсем не хотелось; всё казалось чужим, ненужным, особенно — религия. Но лекции сделали свое дело. Я вспомнил, с каким воодушевлением прочел в юности Иудейскую войну Фейхтвангера. Отчего не помечтать? Точнее: как противостоять мечте? Еврейская мечта оказалась сперва живой, а потом поэтичной, красивой. Сейчас я убежден, что она — из самых красивых на свете; тогда — очень мешали некоторые мелочи, по сути второстепенные. Я был воспитан в другом ключе, в представлении о другой красоте. Приходилось браться за кирку и ломать стену. Труд оправдал себя. Но я все еще не думал, что поеду в Израиль иначе как гостем.
Бытовал анекдот; звонишь в ОВИР, а там отвечает автомат: «Ждите отказа, ждите отказа» (вместо обычного «ждите ответа»). Четыре месяца борьбы увенчались первым успехом: мы сели в отказ. Ура! Половина дела сделана. Тоже — в духе еврейского анекдота, старинного, который не грех повторить (для меня-то он был нов). Шадхан (сват) уламывает бедного местечкового еврея отдать дочку замуж за графа Потоцкого. Еврей упирается: «Да как! Ведь он гой…» День уламывает, другой. На третий еврей сдается: «Так и быть! Забирай дочку…» Шадхан утирает пот со лба и говорит: «Уф! половина дела сделана. Осталось уговорить графа Потоцкого…»
Раз уж я повторяю старое, повторю и другое, тоже к моему портрету относящееся. Гарик (Игорь Миронович Губерман) в представлении не нуждается; он один из самых известных авторов нашей поры; частушечник от еврейства. Среди всей его чепухи есть несколько поразительно точных наблюдений, стоящих научной истины. Например, такое: «Застольные шутки евреев становятся местным фольклором». Попадание в десятку. Не утверждаю, что это он додумался; он мог только зарифмовать чужую догадку; но мы-то от него это получили. Не было культуры анекдота в досоветской России. Она привнесена именно евреями. А вот это его наблюдение — и вовсе дивное, не только правдивое: «Все люди — евреи, но только не все нашли в себе смелость сознаться…» Тут прямо пророк Исайя слышится с его всемирной отзывчивостью. И в самом деле: разве Адам — не еврей?
Сложность состояла в том, что статус отказника нужно было возобновлять. Каждые полгода (чаще не разрешалось) нужно было подавать документы заново. Что же это были за документы? Первое и главное — согласия на наш отъезд тутошних родственников, и не только родителей, а еще и братьев и сестер. Подписи под такими заявлениями-согласиями нужно было заверять по месту жительства или работы. Зачем? Чтобы и этих людей, предположительно честных советских граждан, выставить на позор: «гляньте! у него сын (брат) в Израиль едет!», а слово Израиль, заметьте, было почти ругательством. Даже те из родственников, кто советскую власть ненавидел, оказывались в затруднении, если сами ехать не собирались. Стандартная приписка: «планов дочери (сестры) не одобряю» не спасала: человек всё равно оказывался засвечен. А если родители в разводе и в новом браке, от новых супругов тоже требовались справки. Помню пару, у которой по этой схеме было семь человек родителей; они (эта пара) даже и не пробовали подавать; знали, что семь согласий не получат. Но пусть родители, братья и сестры согласны, выдали справки. Думаете, это всё, что от них требовалось? Ничуть не бывало. Каждый родственник должен был представить так называемую форму № 9, описание своего жилья, что было уже прямой угрозой. Там, где о жилье речь шла, люди человеческий облик теряли. При этом характеристика с места работы, устанавливаемая на общем собрании коллектива коллег, становилась сущей мелочью: тут ведь шельмованию подвергался сам безумец, надеявшийся вырваться в иной мир. Это, если задуматься, посмешнее истории с графом Потоцким. Если человеку плохую характеристику дадут, не помешает ли она отъезду? Мы ведь за границу только хорошее должны отправлять, чтобы не уронить чести нашего социалистического отечества. (Был и такой анекдот. В роддоме еврейским младенцам ставят на попу знак качества. Не еврейские роженицы возмущаются: «Почему только им? Мы тоже хотим!», а им объясняют: «Поймите, эти же на экспорт идут».) Или наоборот: не помешает ли отъезду хорошая характеристика? Настоящий патриот должен удерживать на родине всё самое лучше, а за границу отправлять дрянь… Ворох документов подлежал представлению. Всё было сделано, чтобы за каждый документ человек платил деньгами и кровью, а то и самой жизнью. Не все выдерживали; иные кончали с собою, умирали от удара. От старости тоже умирали — потому что к началу 1980-х в некоторых семьях на чемоданах сидело уже второе поколение отказников.
Мой отец умер в 1976 году, до этого кошмара не дожив; а матери пришлось давать мне справки пять раз. Последнюю она вот как давала: из нотариальной конторы, смилостивившись, к ней вышли за подписью на улицу, где она в такси сидела; она была уже так тяжело больна, что сама подняться на второй этаж не могла. Танины мать, сестра и брат упирались руками и ногами, но, спасибо им, справки давали. Какой крови, каких нервов стоило это им и нам! Молодцы, большевики! Чудное общество создали, где «всё во имя человека, всё на благо человека» (по их стандартной формуле). «В государстве, из которого можно уехать, можно жить» — эту мудрость один отказник выставил (в своем машинописном руководстве по методам борьбы с ОВИРом) в качестве эпиграфа с припиской: кхмерская пословица.
До января 1980 года мои стихи ходили по рукам потому, что у меня были друзья, и потому, что пишущие вообще обмениваются своими сочинениями. Я посещал несколько литературных кружков, где обмен рукописями был нормой. Начиная с января 1980 года я примкнул к самиздату: стал заботиться о том, чтобы стихи ходили. Кроме того, я посылал стихи за границу уже уехавшим друзьям с просьбой их напечатать.
В конце 1983 года мы получили четвертый по счету отказ, и не по почте, а из рук в руки, на улице Чехова, 11, в районном ОВИРе. Вручала молоденькая девка в форме младшего лейтенанта. Ее от нас отделяло что-то вроде стойки, а слева, за другой стойкой, спиной к нам, сидел какой-то чин повыше. Девка сказала нам:
— Я собираюсь сдавать ваше дело в архив, — после чего последовал стандартный пассаж о родственниках, действительных и мнимых. Мы просили дело в архив не сдавать.
— Сколько же вы будете ко мне ходить? — неосторожно спросила она.
— До самой смерти, — ответил я, разом взвинтившись.
— Вашей или моей?
— Поскольку вы мне по возрасту в дочери годитесь, то, очевидно, до моей.
Таня наблюдала за офицером, сидевшим слева. В течение всего этого диалога он сидел, навострив уши; ничего не писал и страниц не перелистывал.
К началу 1984 года за мной уже числилось несколько «подвигов силы беспримерной»: публикации за рубежом (стихи и двухтомник Ходасевича), публикации в самиздате и — в еврейском самиздате (два номера ЛЕА, пуримшпиль). Отказников в Ленинграде были тысячи, выезда почти не было, атмосфера накалялась. Тут явился ко мне Яша Городецкий, ядреный вождь ленинградского отказничества, с идеей написать коллективное письмо в верховный совет СССР с требованием свободной репатриации. Я написал текст в триста слов. У Яши загорелись глаза; он сказал: подпиши. Я подписал. Вторым, с разрешения Яши, поставил свою подпись мой друг Сеня Боровинский, присутствовавший при этом историческом акте. Ни одно мое стихотворение никогда не пользовалось большим успехом, чем это короткое сочинение; ни даже две или три статьи, много раз перепечатанные, ставшие своего рода классикой. Говорят, заявление в короткий срок подписали несколько сот семей, и не только в Ленинграде. Оно всех устраивало своим слогом, своею общностью — и еще тем, что первой стояла моя подпись. В отказницких кругах шла борьба, если не грызня, за влияние в западных еврейских общинах. В отказе влияние означало поддержку и деньги; в случае выезда обеспечивало будущее. Тут не только корысть была замешана, тут еще и разные мировоззрения боролись за свое место под солнцем. Было несколько громких имен, и вокруг каждого — клан. Движение, исходившее из одного клана, зачастую отвергалось другим как чужое, хоть дело и было общим. Ничего удивительного. Люди варились в своем узком кругу по 10, а то и по 20 лет. А меня почти никто не знал в этой среде, и уж во всяком случае я был нейтрален, не представлял никакого клана или хоть кружка. Повторю: идея письма не мне принадлежала. Я только формулировки нашел. Письмо немедленно передали «по голосам» (кажется, по Коль-Исраэль и Свободе), его несколько раз печатали (я видел только публикацию в апрельском номере тель-авивского журнала Алеф). Вот этот скромный шедевр:
В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Нас, евреев подписавших это заявление, объединяет одно: желание жить в Израиле. Переселение в Израиль мы понимаем как репатриацию, как возвращение домой — после двух тысячелетий бездомности и гонений. И наша совесть, и наша многовековая традиция указывают нам этот ориентир. Бессмысленно обвинять нас в национализме: он не больше, чем у любого другого народа, обладающего суверенным государством. Бессмысленно, с другой стороны, говорить, что мы — не нация, не народ: наша национальная жизнь и психология — реальность, столь же мало отторжимая от нас, как и наше древнее имя. За три с половиной тысячелетия нашего национального бытия нам слишком часто приходилось выслушивать из чужих уст, кто мы, где и как нам надлежит жить. Сегодня, более чем когда-либо, мы вправе сами решать эти вопросы. Молодое государство, возникшее из пепла еврейских общин Старого Света, страна, где и сейчас еще живут бывшие узники Освенцима, испытывает трудности роста и болеет многими социальными недугами, но это тоже наша боль, наше, а не чье-либо еще, дело.
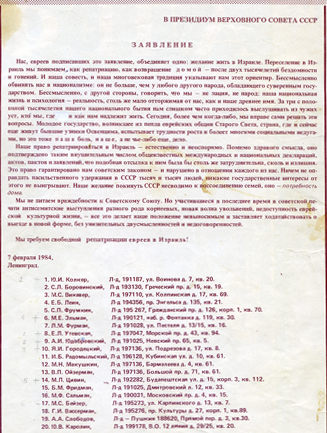
Наше право репатриироваться в Израиль — естественно и неоспоримо. Помимо здравого смысла, оно подтверждено таким внушительным числом общеизвестных международных и национальных деклараций, актов, пактов и заявлений, что подобная отсылка к ним была бы столь же затруднительна, сколь и излишня. Это право гарантировано нам советским законом — и нарушено в отношении каждого из нас. Ничем не оправдать насильственного удержания в СССР тысяч и тысяч людей, никакие государственные интересы от этого не выигрывают. Наше желание покинуть СССР несводимо к воссоединению семей, оно — потребность дома.
Мы не питаем враждебности к Советскому Союзу. Но участившиеся в последнее время в советской печати антисемитские выступления разного рода корнеевых, новая волна увольнений, недоступность еврейской культурной жизни, — все это делает наше положение невыносимым и заставляет ходатайствовать о выезде в новой форме, без унизительных двусмысленностей и недоговоренностей.
Мы требуем свободной репатриации евреев в Израиль.
|
7 февраля 1984, Ленинград |
1. Ю.И. Колкер, Л-д, 191187, ул. Воинова д. 7, кв. 20.
2. С.Л. Боровинский, Л-д 193130, Греческий пр. д. 15, кв. 19.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Имел ли я нравственное право подписать такое? От своего ли имени (в числе прочих) говорил? И да, и нет. Мое сознание мучительно двоилось. Конечно, я был внутренне с евреями, а не с теми, кто их гнал; более того: уже скорее с Израилем, а не с Россией. Но вместе с тем я знал всем своим существом, что еврейскую мечту во всей ее прелести до конца в душу не впущу; что душа моя безраздельно принадлежит русской просодии, русскому языку. Была нестерпимо пошлая советская песня о родине: «А может, она начинается… с той песни, что пела нам мать…». И мелодия нестерпимо пошла; и слова гнусные; взять хоть эти два м подряд, эту чудовищную наммать. Но по существу это было верно сказано: родина начинается в семье, а не позже.
В конце марта 1984 нас вызвали в районный ОВИР на улицу Чехова. Та же самая молодуха с одной звездой на погонах сказала нам:
— Принесите к завтрашнему дню те документы, которые успеете собрать.
— Документы?.. Да у нас и вызова свежего нету.
— Неважно.
— Да что же мы успеем за один день?!
— Что успеете, то и принесите.
— Так может, вы нас и отпустите? — вмешалась Таня.
— Я думаю, вам нужно очень быстро собираться.
Мы с Таней посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, расхохотались.
— Что вы смеетесь? — изумилась лейтенантша. — Я говорю совершенно серьезно.
Она и вправду была серьезна и уважительна, не то что в прошлый наш приход.
Подчеркнем: это была отнюдь не высылка, как может показаться. Выслали, насколько я знаю, за всю послевоенную историю СССР только двух человек: Солженицына и какого-то Борисова, члена НТС (Народно-трудового союза). Буковский не был выслан, это иначе называлось, по частушке: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана — где б найти такую блядь, чтоб на Брежнева сменять?». Бродский — тоже не проходит по этой статье. Какая высылка, если человек сам хочет уехать? Мы — тем более. К тому же дальше у нас пошло с ОВИРом не так гладко, как можно было ожидать; уехали мы только 17 июня. Но на дворе стояла почти беспросветная ночь. За весь 1984 год, как потом я выяснил, из страны выехало менее тысячи человек — евреев, немцев, армян, вообще всех, кто выезжал (минимум миниморум был достигнут в 1985 году). Но всё-таки и разрешение, и поощрение к отъезду было чудом, притом небеспричинным. Что подействовало? Парижский двухтомник Ходасевича, вышедший в 1982-83? Требование свободной репатриации (литературоведы в штатском не могли не узнать мой слог, мою руку)? Ленинградский еврейский альманах (ЛЕА)? Бог весть. Может быть, все сразу. И еще одно, чего мы не знали: Таня и я уже были гражданами Израиля. Сертификаты, полученные нами чуть не год спустя, датированы 23 марта 1984 года; решение могло быть принято и опубликовано еще раньше. Мы не знали, но в Большом доме могли знать — ну, и промахнулись, переоценили наш удельный вес. Не догадались, что мы лопухи. Думали, что я — сила. Запросто могли не отпустить. Дуракам счастье…
По дороге из ОВИРа… что я бормочу? Откуда хорей взялся? Следовало бы сказать «По дороге в Мандалай»… или еще лучше: «Подъезжая под Ижоры». Ямб тоже был к месту: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Но нет: по дороге из ОВИРа откуда ни возьмись явился амфибрахий:
|
Россия… Да точно ли — было? Густеет отчества дым. Шагает убойная сила По стогнам и весям твоим. Последнюю стать напрягает Саркомой разъятая плоть Все темные силы шагают Тобою… Не с ними ль Господь? |
Спрашивается: считать ли стихи работой? Возвращались мы с улицы Чехова пешком, шли вместе, не разговаривать не могли, и разговор должен был иметь самое практическое направление, а стихи, явившиеся сами собою, — о том, существовала ли на свете Россия или только пригрезилась Толстому с Достоевским.
Был в АФИ математик из старших, Ефим Михайлович Полищук. В АФИ мы не слишком ладили. Когда же в 1973 году родители разменяли квартиру, и мы с Таней получили нашу комнату в коммуналке на Шпалерной, Ефим Михайлович оказался соседом: жил где-то на Саперном или на Гродненском переулке. Возникло что-то вроде дружбы. Мы иногда ходили друг к другу в гости, причем чаще он к нам. Ученый-неудачник рангом выше меня (как-никак докторскую написал), он, после сокращения из АФИ, целый год не мог найти работу. Комментируя этот период, он сказал мне как о чем-то удивительном:
— Вы знаете, Юра, я обедал каждый день!
Тут было чему удивляться. Сейчас не верят, но в советское время люди голодали — и умирали если не прямо с голоду, то от недоедания. Не верят потому, что сытый не понимает голодного, здоровый — больного. Пенсия таниной дальней родственницы, одинокой и беспомощной старухи, составляла 15 рублей в месяц: сумму анекдотическую. Она кормилась только за счет собственного огорода; в деревне жила. Восьмидесятилетняя нищенка, в трескучий мороз стоявшая на Владимирской площади, заплакала, получив от меня, случайного прохожего, рубль вместо пятака или десяти копеек; не думаю, чтоб это были профессиональные слезы; вижу ее как сейчас, худую, страшную. Сказала трясущимися губами:
— Я теперь домой пойду!
Полищук, оставшись без работы, начал писать книжки о математиках былых времен. Начал с Вито Вольтерры, того самого, с которого динамика популяций пошла, причем вступил в переписку с сыном математика, итальянским сенатором. На вопрос Полищука, пожизненное ли в Италии звание сенатора, пожилой итальянец ответил: избирают на восемь лет, но для меня это звание — пожизненное. Переписывались они по-французски. Потом Полищуку удалось издать три книжки о математиках: об Эмиле Бореле, Софусе Ли и Жаке Адамаре, а книжка о Вольтере так и не вышла. Умер Полищук уже после отмены большевизма — и не от голода, хотя и не совсем своей смертью: в гололед упал на платформе вокзала, да так, что не встал.
Но голод — одно, а голод тех, кто от тебя зависит, — другое. Мы и так жили бедно; беднее всех, кого я знал (исключая только Женьку Левина и его жену Вику, ставших потом богатыми людьми в США). Две нравственных потребности сталкивались лоб в лоб в моей жизни. И всё-таки я решился. Уволился из СевНИИГиМа с мыслью наняться проводником на товарные поезда, сторожем, кочегаром, кем придется.
От приятеля, безвестного стихотворца из армии самиздата, получил я в качестве пароля имя: Иван Павлович Шкирка, начальник одного из участков треста Теплоэнерго-3. Берет, было сказано, людей с дипломами и с неблагозвучными фамилиями на должности операторов газовых котельных. Либерал, стало быть, если не прямой диссидент.
Оказался Иван Павлович прост, не из интеллигенции, с провинциальным выговором. Места для меня у него не нашлось, но он не вовсе меня отфутболил, а отправил на 1-й Октябрьский участок Адмиралтейского предприятия того же треста, к Тамаре Васильевне Голубевой, и та — взяла. Не кочегаром взяла: уговорила наняться сменным мастером. Я уступил. Разом сменить статус мешала свирепая, прямо-таки в кровь вошедшая система советских предрассудков. В стране труда — труд рабочего и вообще-то презирался, а уж кочегарка была просто социальным дном.
Нашел я Тамару Васильевну по адресу: улица Декабристов, дом 14. Во дворе росли два громадных каштана, в глубине, в двухэтажном флигеле, помещалась котельная, над котельной — начальство участка, некто Коломийцев, и с ним всякие канцелярии.
Тамара Васильевна тоже была проста донельзя, и тоже — особенная. Эта особенность не сразу проступала. Занималась начальница только работой: котлами, трубами, дымоходами, задвижками, запорными клапанами. Хлопотала, ни минуты не сидела сложа руки, звонила, распоряжалась, бегала по котельным, сердилась — потому что всегда было на что сердиться; подчиненные трудовым энтузиазмом не кипели. Под ее началом находилось человек семьдесят, в основном женщины: молодые, из приезжих и неустроенных (им нужна была прописка); пожилые, из потерянных; а мужчины — счетом на единицы, и чуть ли не сплошь — старые алкоголики. Работа, между прочим, грязная была: в ремонтный период — краска, смазка, цемент, асбест, в сезон — газ, и это еще не говоря о людях. При всём том Тамару Васильевну отличала особенность, которую, по прошествии десятилетий, не могу определить иначе как словом чистота. Чистота и цельность. Английское integrity подходит для ее характеристики. Вижу эту женщину ясно: высокая, хрупкая и строгая, даже властная, с прихваченными платком волосами. Меня, помнится, ни о чем она не спросила, хоть и поняла с первого взгляда, что я из других. Избегала праздных разговоров. Умела улыбаться. Было ей в начале 1980 года (как я знаю теперь) неполных 39 лет. Мне — на пять лет меньше.
Последние месяцы в СевНИИГиМе я сидел в вычислительном центре. Там работало несколько бойких молодых девушек, программировавших лучше меня. Когда слух о моем трудовом подвиге достиг Итальянской, одна из них, Галя Богуславская, позвонила мне с деловыми расспросами. Оказалось, что о кочегарстве подумывает ее близкий друг, потом ставший мужем. Он работал дворником. Этим всё было сказано. Что он — человек образованный, и уточнять не требовалось.
Я временно жил у тещи на Ланском шоссе, эта пара — на улице Курчатова (бывшем Яшумовом переулке). Мы с Таней позвали их в гости. Галя и прежде казалась мне думающим человеком. Саша Кобак, как стало ясно с первых его слов, прямо участвовал в движении нравственного сопротивления, находился в тесном контакте с полуподпольной литературой и диссидентством. Держался он с необыкновенным достоинством; взвешивал каждое слово, был подчеркнуто вежлив; обладал, что называется, талантом важности. Тотчас всплыло несколько имен, общих для него и для меня. Обнажились и наши эстетические расхождения; он тянул в сторону авангарда. Однако ж в главном мы были вместе. Кто не с ними, тот против них. Я отправил Кобака к Тамаре Васильевне, и он сделался вторым сменным мастером. Третьим — через Кобака — был принят на такую же должность Слава Долинин. Если от Кобака нить тянулась к литераторам, то от Долинина — уже прямо к борьбе и заговору, к Народно-трудовому союзу, политической партии со штаб-квартирой в эмиграции. Был Долинин как-то связан и с машинописным журналом Сумма, за участие в котором посадка была обеспечена. Это было нечто почище московской Хроники текущих событий. У истоков журнала, выходившего с 1979 по 1982, стояло несколько незаурядных людей, в первую очередь — математик Сергей Маслов (1939-82). Когда мы с Долининым сошлись поближе, и он решил, что мне можно доверять, он предложил мне за вознаграждение отпечатать один или два выпуска этого журнала. Я согласился. Долинин приволок ко мне на Воинова машинку, старый ундервуд без хозяина и постоянного адреса. Я выполнил обещанное; он аккуратно расплатился. Печатал я на папиросной бумаге; делал чуть ли не по восемь закладок. Потом машинка долго еще стояла в нашей коммуналке — и означала немедленный арест в случае обыска. Долинин всё не хотел ее забрать. Наконец, у Тани кончилось терпение; я погрузил машинку в рюзак и отнес к его (Долинина) матери, Лидии Семеновне, жившей в двух шагах, по адресу улица Воинова 44Б кв. 41, причем пронес эту бомбу под самыми стенами Большого дома, выходившего на улицу Воинова одним из своих бастионов.
В последующие месяцы «к нам на участок» хлынули отверженные и отщепенцы всех мастей: стихотворцы, живописцы, выкресты, шалопаи, подвижники.
1-й Октябрьский участок простирался от «Московской три» до «Адмиралтейской шесть», по площади приближался к Монако, по населению превосходил Андорру. Литераторов и литературы, которые в короткое время сосредоточились в котельных этого княжества, хватило бы на иную африканскую державу. Была тут своя печать, свои салоны, свои гении. Граница с миром внешним, советским, очень чувствовалась. Атмосферу пронизывала достоевская мистика. Присутствовала и прямая чертовщинка — в абсурде ситуаций и положений, в непомерных честолюбиях, даже — в именах: среди кочегаривших молодых женщин помню Люду Чертолясову и Катю Бесогонову. Половина полуподпольных стихотворцев тянула в сторону обэриутов.
Достоевская мистика, я сказал… Не странно ли, что в Ленинграде, в Петербурге есть станция метро Достоевская? Какой это женщине оказана такая честь? Не жене ли Федора Михайловича Достоевского? А станция метро Маяковская — та уж явно в честь сестры поэта резолюции. Он ведь нам прямо говорит: «я сестрат». Как люди додумались до такого — и как другие люди, все обитатели миллионного города, эту чушь проглотили? Почему не восстали и не взяли штурмом Смольный? Ведь это смешно и стыдно. Абсурдно. Но тут мы советскую власть выгородим. Она — всего лишь самая яркая выразительница общей тенденции XX века: его тяги к абсурду. Обэриуты были на месте в советском Ленинграде. Они возвестили мировое движение, оказались в авангарде глупеющего человечества. Восемнадцатый век был веком мысли, XIX — веком паровоза, XX — веком нелепостей. Другое дело, что к концу века вся творческая энергия ёрничества, и без того не бесспорная, выдохлась и выродилась.
Вообще так называемая вторая культура дала меньше, чем казалось при начале свобод в 1990-е годы — и чем кажется ее ветеранам сегодня. От иных шумных в ту пору имен не осталось ничего. Горстка настоящих, но вовсе не ошеломляющих поэтов и прозаиков — вот скромный итог бронзового века. Горстка — и с нею Бродский, выхваченный лучом юпитера не за поэтический дар, а за его человеческую монументальность. При ближайшем рассмотрении Бродский — всего лишь один из лучших поэтов эпохи Бродского. Он бесспорный эпоним. Ничей портрет не прорезан рельефнее. Основная же масса осталась в сумерках свободы. Но вместе с тем общественное значение этой среды было велико, а для ее участников — громадно. Это был выход из советского тупика, из круговой поруки лжи, безумия и подлости.
С Кобаком и Долининым я поверхностно подружился. Эстетический барьер между нами на деле шел дальше эстетики. Дилемма с ними или против них в искусстве читалась многими так: либо советский академизм, либо — авангард во всех его павлиньих перьях. Я отвергал и то, и другое. Говорил тогда, повторю и теперь: сознательный поиск новизны в искусстве — сперва пошлость, а потом — подлость, жестокость. Как и в политике, эта новизна надевает личину свободы и подменяет свободу. Случайно ли поначалу большевизм и авангард шли рука об руку? Ничуть. Они на самом деле — близнецы-братья. Их позднейшая ненависть друг к другу — тоже братская. Авель и Каин наследства не поделили: власти над душами человеческими. Так и эти. Политический авангардизм ведет к большевизму и к нацизму (теперь — и к терроризму), авангардизм в искусстве — к постыдному черному квадрату Малевича, к Летатлину, нелетающему самолету Владимира Татлина, в конечном же счете — к консервной банке с экскрементами художника в качестве произведения искусства (было и такое, это не выдумка). Новизна как самоцель бесчеловечна, преступна и напрочь лишена эстетической ценности. Есть Бог или нет его, режиссура мирового спектакля должна оставаться в его руках. Традиция умнее нас. Двадцатый век свел эпоху Возрождения к абсурду, увенчал ее режиссурой обезумевшего человека. Это был, сверх всего прочего, век режиссуры. Неслучайно и профессия режиссера, карикатурная, неизвестная при Эсхиле и Шекспире, когда театр был живой, настоящий, всенародный, разрослась исполинским мухомором именно в двадцатом веке. В социалистическом раю она выступила уже полной квинтэссенцией пошлости. Советские подмостки и советское кино были и остались в моих глазах сплошным театром на поганке.
Спор наш обозначился через имена. Не только Бродский, но и Виктор Кривулин ходил у моих оппонентов в гениальных поэтах, я же, зная второго с отрочества, не соглашался признать за ним и таланта (разве что — талант вождя). Спор, собственно, шел с Кобаком; Долинин «знал, как надо», был слишком поглощен политикой, эстетику брал готовенькой. Как это всегда бывает при твердом несогласии и тесном контакте, в итоге спор привел меня и Кобака к ссоре. Я раздражал его и многих других, и Кобак нашел для этого раздражения слова:
— Ты не похож на свои сочинения.
С удивлением вспоминаю, что в ту пору, когда общение много давало мне, мы с ним как-то даже за грибами вместе ездили, притом, что я — совсем не грибник.
Олег Охапкин, Владимир Ханан, Елена Пудовкина, Борис Иванов, Сергей Коровин — вот некоторые из литераторов, первыми захваченные тогдашним котельным движением. Оно множилось день ото дня, пополнялось, а завершилось в 1989 году журналом ТОПКА (Творческое объединение пресловутых котельных авторов), последним машинописным изданием. Его выпускала поэтесса Ольга Бешенковская (1947-2006); первый номер открывался ее статьей Поэтов — в ТОПКУ. Иные удержались в котельных и в XXI веке: Вячеслав Долинин, Борис Лихтенфельд. Это занятие оставляло время для мысли и сочинительства. Кобак говорил:
— Главное в профессии кочегара — не стать кочегаром.
Иногда в котельных сходились компании. Появлялись и те, кто не кочегарил. Среди полуподпольных авторов были заметны люди, в 1960-е прошедшие через поэтические семинары при дворце пионеров. В подцензурную литературу никто из них не вышел. Многие обратились к религии. У Лены Пудовкиной, «на Адмиралтейской 12», имелась в котельной комната, годившаяся для наших нищенских банкетов и литературных сходок. Там отмечались православные праздники. На пасху в 1981 году, спустя десятилетия после дворцовских лет, я увидел там Сергея Стратановского, единственного представителя авангарда, в чей талант верил. Он меня не узнал, да и мудрено было. Помню настороженность, если не враждебность в его взгляде; мол, еще один стихотворец, много вас здесь развелось. Рассуждал он о том, что ранний Николай Тихонов («гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей») — много лучше, талантливее Багрицкого, и мне почудилось, что в этом рассуждении не обошлось без национального момента. Мне и в голову бы не пришло сравнить этих двоих, настолько очевидно было, что Багрицкий выше. Он, Багрицкий, если угодно, страшен и отвратителен в некоторых своих стихах; но более талантливого советского поэта в 1930-е годы не было… Олег Охпакин, явившийся словно со страниц Достоевского, рассуждал в тот вечер и вовсе интересно: говорил, что каждому человеку написано на роду место на земле, родина в узком смысле слова, и границы ее нельзя переходить без ущерба для своей души; что он, Олег, перешел, больше чем нужно путешествовал, да еще на самолетах летал — и погубил в себе что-то важное. Одну его фразу я запомнил текстуально — так она меня поразила:
— Тогда, — сказал он о каком-то периоде своей жизни, — у меня и деньги были…
От этого тоже пахнула достоевщиной. Самая постановка вопроса казалась мне невероятной: как это, «деньги были»? Они — либо есть всегда, либо их нет никогда.
К этому времени я уже спланировал из сменных мастеров в кочегары — с тем, чтобы освободить время для занятий Ходасевичем
Ленинград не только по концентрации интеллектуалов стоял тогда на первом месте в мире: по насыщению неудачниками он тоже первенствовал. Заметнее всего это было в литературе. В барской Москве литераторы составляли кружки. В ней насчитывалось около трехсот издательств, при иных кормились даже прямые диссиденты из числа отсидевших — вроде Юлия Даниэля. Свобод было несопоставимо больше, эскапизма — меньше. В Ленинграде существовало всего четыре издательства: Детгиз, Художественная литература, Лениздат и Советский писатель. Только последние два могли выпустить книжку начинающего поэта… могли, да не выпускали. Первая книга Натальи Карповой пролежала в Советском писателе — соберитесь с духом — 15 лет, прежде чем была оттиснута. К Детгизу подпускали только людей официальных, проверенных, или тех, кто уже поставил ногу на подножку. Художественная литература и вообще не в счет; там классиков издавали. Добрых три-четыре сотни авторов оставались за бортом, старели, седели, умирали, так и не пробившись к гутенбергу. Вторая литература поневоле составила в Ленинграде единый круг — в результате кромешного гнета, смешавшего всё и вся, вогнавшего в один слой тех, кто при других обстоятельствах руки бы друг другу не подал… Естественные науки тоже были представлены своими отверженными.
Я вовсе не приверженец города на Неве, за неполных сто лет три раза сменившего имя — и теперь мне чужого. Только мысль вынуждает меня противопоставлять Петербург и Москву. Вражда между ними началась при Петре. При большевиках Москва отыгралась — и бессознательно начала угнетать Ленинград больше, чем другие города и веси. Сменилась идеология, этнос — и тот переродился; Берия или Ежов и под пыткой не признали бы, что у них есть специальное отношение к Ленинграду, на уровень сознания это у них не поднималось; а факт налицо: нигде сталинские палачи не собрали большего урожая, чем в Ленинграде. Скажут: была ленинградская оппозиция: Каменев, Зиновьев, Крупская. Но почему — ленинградская, а не киевская? Потому что противостояние никуда не делось; сидело в печенках Ленина, Сталина, Бухарина и первого встречного на улице, подсознательно присутствовало в мировоззрении, в языке и произношении, в диете, в чем угодно — и, конечно, в литературных школах; петербургская и московская школы в поэзии — не выдумка. Помню, как меня в юности смешили московское аканье, московское выражение «булка хлеба». На одних и тех же должностях люди получали в Москве больше, чем в Ленинграде. До начала 1940-х не Москва, а Ленинград первенствовал в литературе и физике; после войны вся культура отхлынула с берегов Невы в «первопрестольную» — к деньгам и наградам, к патриотизму. Даже Маршак с Чуковским переехали; даже Заболоцкий не вернулся. В Москве были не только деньги и патриотизм, там было больше свободы… Всю историю России можно представить себе как чехарду этих двух начал: московского и петербургского, — конечно, если договориться считать Киевскую Русь и Московию одним государством. Две физиономии обозначились задолго до появления Москвы и Петербурга. Варяги — петербургское начало, Европа; печенежское поле, монголы, Орда — московское начало…
Машинописный журнал Часы (Борис Иванов, Борис Останин и другие) тоже готовился у газовых котлов. Литературная жизнь кипела на 1-м Октябрьском. Оборвалась она 22 июня 1982 года — арестом Долинина. Будучи уже в камере в Большом доме, он женился; или, может быть, точнее будет сказать, что Лена Пудовкина, в традиции декабристов, пожелала стать его женой, и людоеды допустили эту вольность, мешать не стали; регистрация состоялась 12 августа 1983 года.
Не знаю, пострадала ли от всего этого оживления Тамара Васильевна Голубева. Может, и нет. Альтернативой диссиде были для котельного начальства другие проблемные люди вроде пьяниц, другие формы эскапизма. Начальство, в том числе и начальство идеологическое, сознавало это; ему приходилось мириться с тем, что бодрые советские граждане в кочегарки не шли. На соседних участках должно было происходить что-то подобное этому. У Ивана Павловича Шкирки — точно происходило.
Я не сразу понял, что эти двое — Голубева и Шкирка — пара: венчанная пара, не ходившая в советский ЗАГС; что они — тоже эскаписты, но другого толка; другие сектанты. Это простое соображение осенило меня при странных обстоятельствах.
Рядом с людьми пишущими, деятельными и честолюбивыми, громадным хвостом шел по участку fringe: те, кто просто отвергал советскую действительность; мечтатели всех мастей. Среди них выделялись новообращенные православные, чуть не каждый второй — из евреев. Смутно помню мрачноватую молодую женщину, сидевшую в кочегарке на улице Плеханова. Прослышав, что она крестилась, Тамара Васильевна спросила ее:
— Тебе-то зачем?!
И я догадался. Жаль, ни о чем Голубеву не спросил. Слишком подавлен был своими тогдашними бедами.
Всё религиозное народное творчество в России, до Бердяева и Франка, до ученых богословов, всегда шло не в сторону разработки Нового завета (как на Западе), а в сторону от него, в сторону Ветхого завета. В первой половине XIX века в губерниях насчитывалось до двух миллионов субботников разных оттенков. Под влиянием одного из них, казака Тимофея Бондарева, перешедшего в иудаизм, начал свою проповедь и свою пахоту Лев Толстой. Хоперский казачий полк на Кубани какое-то время почти целиком состоял из ветхозаветных сектантов-раскольников, которым только полкового раввина не доставало. Жидовствовала на Дону громадная станица Александровская, потом ставшая городом. Места эти, к слову сказать, очень хазарские. Традиция перешагнула через этнос. Иные и слова казак и казах выводят из Хазарии. Конечно, по-тюркски каз — кочевать, а казаки вышли из бродников, славянских и финно-угорских кочевников. Но возможна (или, во всяком случае, обсуждается) и другая этимология. На иврите хазак означает сильный, независимый. Более того, два корня могли вступить во взаимодействие; один индуцировал другой, напомнил о нем, выдвинул на авансцену истории.
Что на самом деле сказала Тамара Васильевна крестившейся еврейке? То, что говорит апостол Павел в Послании к римлянам (11, 26): «весь Израиль спасется». Только и всего. Незачем еврею креститься.
Где теперь эти двое, Голубева и Шкирка? Кто поблагодарил их? А ведь они кое-что сделали. Не для нас делали. Стихов не читали, живописью не интересовались. Делали для себя, по велению совести, только без этого слова на устах. Перед Богом ходили… Я не про адрес их спрашиваю; его в справочнике можно найти. Где они в новой России, унижающей христианство невиданным доселе образом: массовым хамским ханжеством?
В моих беседах с Сашей Кобаком всплыл поэт Владислав Ходасевич (1886-1939). Его я противопоставлял и советской литературе, и авангарду, ею гонимому. Вот, говорил я о Ходасевиче, узенький мост, перекинутый над пошлостью, одинаковой справа и слева; Ходасевич выше и чище не только сегодняшних литературных передвижников, но и большой четверки. Цветаева криклива, Пастернак физиологичен и приземлен, Мандельштам манерен, Ахматова отдает квасом. Хлебникова я отказывался признать поэтом; про Блока (в «анкете о Блоке»; вопросник к столетию поэта распространила среди котельных авторов редакция машинописного журнала Диалог) писал, что он устарел, поскольку контекст эпохи, на котором держалась его поэтика, не оправдался, ушел в песок. От стихов я требовал естественности и точности. Несколько раз принимался за статью под названием Эстетика точности, да так и не написал. Ненавидел расслабленность. Всеми силами души презирал усеченную рифму типа «демократ-вчера», называл ее уступкой черни. От ассонансов (вроде «чирикала-чернильница» у Сосноры) в бешенство впадал. Рифма должна быть опрятна. Она — служанка, не госпожа… Заметьте: на дворе — безрассветная ночь, дышать нечем, быт страшен, до получки трех рублей не хватает, работаю сизифом, жена и ребенок хронически больны, соседка-шизофреничка в коммуналке какает на пол в коридоре… а вопросом жизни и смерти становится рифма. Но это и понятно. Пуризм — морфий обездоленных. Другие спасались, забиваясь в другие щели.
В моде были квартирные лекции и семинары; тоже — форма эскапизма и протеста. Кобак предложил мне рассказать о Ходасевиче у него дома, в кругу знакомых. Но что же я знал о Ходасевиче? Тяжелую лиру — наизусть: и всё. Эту небольшую книжку я от руки переписал в 1972 году в Публичке, а потом отпечатал на машинке. Ходасевич был для меня идеей, эталоном вкуса; реинкарнацией Боратынского в XX веке. Пришлось готовиться. Несколько раз я сходил в Публичку. Поздней осенью или в начале зимы 1980-го семинар состоялся — в деревянном доме на улице Курчатова. За семинаром последовало предложение написать о Ходасевиче для журнала Часы; тоже — от Кобака; или, может быть, от Останина; они составляли один круг. Никакой прозы я отродясь не писал, не понимал, зачем пишут прозу, когда есть стихи; но принялся за дело с воодушевлением. Чтобы иметь больше досуга, в январе 1981 года из сменных мастеров перешел в кочегары. Писал в основном в моей котельной «на Адмиралтейской шесть», где отсиживал суточные смены раз в четыре дня; писал остро отточенным карандашом, микроскопическими буквами, не выпускал из рук стиральную резинку. Сперва думал, что буду отправляться от концепции, но быстро сообразил, что это — никому не нужный вздор. Со времен романтизма жизнь и стихи лирического поэта составляют неразрывное целое; отделять одно от другого — формалистический трюк. У иных поэтов жизнь, а не стихи, становится их главным произведением; возьмите хоть Волошина. Почти сразу нашел я скрипичный ключ, ставший названием статьи: Айдесская прохлада.
Мое физико-математическое образование одновременно мешало мне и воодушевляло меня. В стихах — точность и естественность; в литературоведческой прозе — мерещилось мне — должны быть точность и полнота; необходимость и достаточность. Сейчас я знаю, что полнота недостижима, а педантичное стремление к ней подчас и мешает, скрадывает горизонты; тогда — верил в нее. Недостижима она потому, что литературоведение — что угодно, только не наука. Говорят: литературоведы — несостоявшиеся поэты и писатели. Вздор. Они — несостоявшиеся физики и математики: наводят наукообразие там, где, спору нет, нужны ум и знания, совершенно необходим писательский дар — и абсолютно недостижима формализация, бесплоден формальный подход, без которого не бывает науки. Они выплескивают ребенка вместе с мыльной пеной. Любовь, ненависть, грусть, отчаяние, вообще любая нравственная составляющая — вот в чем жизнь литературного произведения, и тут математика не работает, потому что материя слишком сложна. Литература исследуется только средствами литературы. Литературовед (я не говорю об архивистах) — в первую очередь писатель, а всё остальное потом… Но как раз работа над Ходасевичем поощряла мою мечту о полноте. Его не было на карте, его предстояло открыть. Айдесская прохлада — вообще первая попытка характеризовать его целиком.
Из двух подходов — спекулятивного и компилятивного — я выбрал второй, менее выигрышный, более трудоемкий. Решил не декларировать и не утверждать, сколько хватит сил, а строить статью по кирпичику, вглядываясь в эпоху и лица, — иначе говоря, уважать читателя, сделать очевидное для меня очевидным для него, себя же спрятать… и был потрясен тем, как много косвенно говоришь о себе, честно и самоотверженно говоря о другом. Это сразу стало для меня принципом в прозе: избегать самовитого местоимения всюду, где без него можно обойтись. Только в мемуарах оно неизбежно. Всё равно ведь о себе пишем, что бы ни писали… Работал я над статьей три месяца, каждую свободную минуту; закончил 4 апреля 1981 года. По объему получилась небольшая монография. Я отпечатал ее и раздал на прочтение. Среди первых критиков отмечу Я. Ю. Багрова, врача, знатока литературы и мыслителя (он утверждал, что у России по отношению к евреям — эдипов комплекс); Наталию Борисовну Шанько, переводчицу, вдову актера Антона Шварца, и Ксению Дмитриевну Ридберг, жившую в Доме политкаторжан (Петровская набережная 1/2. кв. 50). Шанько, с которой я не виделся, велела передать мне, что я «очень умный человек»; спасибо ей. Ридберг в основном журила меня; уверяла, что по-русски нельзя сказать перефразировать. Ей тоже спасибо. Читали, конечно, и все часовщики. Останин сказал, что он — «за нормальное захоронение»; это означало: я непомерно превозношу консерватора и ретрограда. Что ж, он держался другой эстетики. К 26 мая 1981 года был готов второй вариант статьи. Она вышла в Часах (в 29-м номере), а в 1983 году — еще и в машинописном журнале Молчание. Поправки я продолжал вносить и после этого.
Статья удалась и произвела некоторое движение в умах. Ее читают до сих пор, на нее ссылаются, с нею спорят. Тщательно написанный текст живет долго. Конечно, тогда — Ходасевич был автором запретным и забытым. Это послужило трамплином моей статье и моей известности. Незнакомый человек, московский профессор Ю. И. Левин (мой полный тезка), писал через три года после опубликования Айдесской прохлады: «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли…» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 17, 1986). Еще выразительнее оказался другой отзыв. На библейском конгрессе в Иерусалиме в 1993 году я познакомился с лингвисткой и пушкинисткой Н. Ботвинник, поразившей меня образованностью и живостью ума. Услышав мое имя, она сперва не хотела верить: «Это же псевдоним!», а когда поверила, сказала: «Я вас люблю!» (не подумайте лишнего: как автора).
В процессе работы над статьей я многие часы просидел в Публичке. Кандидатский диплом открыл мне доступ в какой-то не совсем обычный крохотный читальный зал, хоть и не в спецхран, конечно. Просмотрел и прочел я горы книг и журналов. Среди попутных открытий отмечу два. В статьях о Мандельштаме в 1920-е годы повторялась мысль о том, что он «неискренен». Но что такое неискренность в стихах? Неумение себя выразить, иначе говоря, невладение словом. Вообще им не восхищались. Прибавьте сюда еще и многократно отмеченную «холодность» его стихов — и вспомните, какой бум вокруг него начался в 1970-е. «Лучший поэт всей человеческой цивилизации» — было и такое сказано (естественно, в еврейских кругах). Почему Мандельштам не произвел громадного впечатления на современников? Да очень просто: как это всегда бывает, видели человека — и не слышали стихов. Как человек же Мандельштам куда как уступал убедительностью Ахматовой или Маяковскому; карликом рядом с ними казался. Горстка людей понимала его значение.
Второе крохотное открытие вот какое: по некоторым признакам, Владимир Жаботинский плакался в жилетку Леониду Андрееву: о нестерпимом антисемитизме в России. Леонид Андреев в 1914 году опубликовал памфлет против антисемитизма под названием Первая ступень. Он рассказывает, что к пришел нему как-то в гости автор из евреев, изумительный стилист, обладавший дивными литературными способностями. Пришел и сказал: всё, не могу больше, ухожу из русской литературы в еврейскую; пусть она мала рядом с русской, а гордость моя оскорблена — и простить не могу. Конечно, стилисты из евреев в ту пору уже водились, но, во-первых, и среди них Жаботинский выделялся мощью; во-вторых, уж очень похожа программа этого стилиста на ту, которую от своего имени провозгласил Жаботинский; в-третьих, Андреев и Жаботинский дружили и состояли в переписке, это факт известный.
Что до Ходасевича, то тут почти каждый шаг приносил крохотное открытие. Помню, как я радовался, обнаружив, что Счастливый домик (название второй книги Ходасевича) — словосочетание пушкинское, из стихотворения Пушкина Домовому. Никто из современников этого не заметил; даже — Мариэтта Шагинян, лучше всех писавшая о Ходасевиче и вообще начинавшая очень здорово. Конечно, не обошлось у меня без ошибок, притом не столько в статье, где каждое суждение я выверял по десять раз, сколько в примечаниях к стихам. Особенно меня мучило потом вот что: псевдоним известного ивритского автора (Ходасевич переводил евреев с подстрочника) Ахад-'ха-ам я, с моими начатками иврита, смело перевел как один народ, когда на деле оно переводится как один из народа.
Многого не хватало — и нужные книги я подчас получал не в знаменитом книгохранилище, а прямо в котельной. Приносили знакомые и незнакомые, прослышавшие о моем занятии; случалось, передавали со сменщиком. Дивное время!
Статья еще только планировалась, когда у меня в руках оказался парижский адрес Зинаиды Шаховской (1906-2001). Я думал, что она еще редактирует Русскую мысль, в ту пору — единственную свободную (и уже этим лучшую) русскую газету мира, столь постыдно выродившуюся в XXI веке. Я написал Зинаиде Алексеевне и послал письмо обычной почтой. Набросок письма сохранился:
Многоуважаемая Зинаида Алексеевна!
Зная о Вашей чрезвычайной занятости, всё же решаюсь беспокоить Вас — на правах Вашего (русского) читателя и при сочувственном попустительстве нашего общего знакомого [Михаила Азарьевича Краминского], навещавшего Вас в текущем году. Для меня и для многих, кто родился в России после второй мировой войны, Ваши мемуары (литературные силуэты, если воспользоваться Вашим словом) представляют живейший интерес и драгоценны двояко — как прекрасное литературное произведение и как добросовестные свидетельства современника. Многие имена, которые Вы называете, перестали быть для нас только символами далекого прошлого и сделались предметом пристального и благодарного внимания. Едва ли не первое из них — имя Владислава Фелициановича Ходасевича, любимейшего моего поэта в XX веке. 28 мая 1986 исполнится 100 лет со дня его рождения. Моя давняя мечта — написать о нем и, в частности, восстановить, насколько это мыслимо, важнейшие черты его биографии, стирающиеся на наших глазах. Вы знали его лично. Не найдете ли возможным сообщить мне о нем некоторые сведения? Надеюсь, что непраздный интерес, питаемый мною к Ходасевичу и его окружению, способен несколько искупить в Ваших глазах дерзость моей просьбы. Вот основные вопросы. Вы мельком упоминаете его первую жену Рындину — какова хронология и судьба их брака? какое место в жизни Ходасевича занимала Н.Н. Берберова (ее Воспоминания оказались для меня недоступными)? Какова девичья фамилия его (третьей?) жены Ольги Борисовны? Я не имею права рассчитывать на развернутый ответ, но спешу Вас уверить, что каждое Ваше слово и самый факт Вашего ответа на мое письмо будут расценены мною на вес золота. В любом случае Вашим пожизненным должником остается — Юрий Колкер.
P.S. К сожалению, стихи Ходасевича, добавленные Н.Н. Берберовой в Собрание Стихов 1961, мне до сих пор не известны. — Ю.К.
P.P.S. 1981 — год Вашего юбилея. Не зная точной даты, приношу мои поздравления — задним числом или авансом. От всей души желаю Вам здоровья и новых творческих удач. — Ю.К.
Набросок не датирован, но мне чудится, что писал я в самый день моего рождения, 14 марта; писал в полной уверенности, что либо мое письмо не дойдет, либо она не ответит, либо не дойдет ответ. Ответ от 20 марта 1981 года пришел через две недели. Таня позвонила мне «на Адмиралтейскую шесть» и прочитала письмо по телефону. Я едва верил своим ушам. Это было письмо из России.
Завязалась переписка, длившаяся десятилетия. Потом, в эмиграции, я дважды ездил к Шаховской. Бедная старуха пережила свое время.
Я и на революциях и на войнах перебывала — в Лондоне под годами бомбежек, — и в Гестапо допрашивалась, но вот для старости храбрости надо гораздо больше, чем для военных подвигов,
— писала она мне 13 декабря 1982 года. В год ее смерти я напечатал все сохранившиеся у меня ее письма, отправленные мне в Ленинград (Колокол №2, 2001). Другие до сих под не собраны.
Шаховская была так одинока, что в 1997 году предложила мне, чужому, в сущности, человеку, атеисту, быть душеприказчиком ее литературного наследия. Мог ли я согласиться на это, не зная французского? Ведь половина ее сочинений написана по-французски. Да и досуга у меня не было. Самое же неприятное состояло в том, что, восхищаясь ею как человеком, я не мог распространить это восхищение на ее литературный стиль. В приведенном письме я чуть-чуть лукавил. Но ведь на то оно и письмо. Эпистолярный жанр предполагает условную вежливость: милостивый государь … ваш покорный слуга…
С Ходасевичем Зинаида Алексеевна мне в письмах не слишком помогла; главное, что она знала, вошло в ее воспоминания, которые еще до нашего заочного знакомства дал мне на прочтение Михаил Азарьевич Краминский. Но в другом отношении — помогла очень. Уж не знаю, как об этом зашла речь, а только в ее письме от 20 июля 1982 года нахожу фразу: «Мы разницу этническую не делаем — когда дело касается русской культуры — хочу Вас в этом уверить». Что̀ это в ту пору для меня значило, сейчас словами не объяснишь.
В субботу, 30 мая 1981 года, в 17:40, в нашей коммунальной трущобе открылась, страшно вымолвить, конференция, приуроченная к 95-летию Ходасевича. Было прочитано четыре доклада: Анатолия Бергера, Михаила Костоломова и два моих: первый — по Айдесской прохладе, второй — нечто вроде манифеста под названием Пассеизм и гуманность, потом (без моего ведома) опубликованный в Wiener Slawistischer Almanach. Присутствовало 29 человек, среди них: часовщики (но без Кобака), Сергей Стратановский, Елена Игнатова, Ольга Бешенковская, Олег Охапкин, И.Ф. Мартынов, Полина Беспрозванная, Елена Пудовкина, Елена Дунаевская, Борис Лихтенфельд, Александр Танков, Эдуард Шнейдерман, Светлана Вовина — и немка Барбара Свитек (Switek), славистка (и феминистка), делавшая конференцию международной. Всё честь по чести. Одно мешало: общее для всех нас, не только для меня, неумение выступать. Опять, как в годы занятия наукой, я изумлялся себе: ведь владею же материалом, владею как никто на всем белом свете, если говорить о Ходасевиче, — отчего ж не могу веско, кратко и убедительно изложить то, что знаю? Другие были не многим лучше. Я утешался примером Герцена. Тот, выступая на европейских свободолюбивых собраниях, всякий раз произносил вступление: мол, у меня на родине искусство красноречия не процветает, извините, я свой текст прочту. Но ведь Пассеизм и гуманность я именно читал, не импровизировал — и всё равно спотыкался, как первоклассник, не выучивший урока.
Не успела Айдесская прохлада появиться в Часах, как последовало еще одно предложение: подготовить двухтомник Ходасевича для парижского издательства La Presse Libre. Исходило предложение от поэтессы Тамары Буковской, из кругов новых православных, — и с Шаховской никак для меня связано не было. До сих пор не знаю, что за механизмы тут действовали. Я ответил: буду готовить двухтомник для самиздата, сам отпечатаю его в пяти-шести экземплярах — и раздам друзьям; а от дальнейшего меня увольте. Поручиться за себя не могу; не знаю, как поведу себя под пыткой; боюсь смалодушничать. Парижскому изданию, конечно, буду рад, но переправляйте без меня, помимо меня.
Первый том был готов в уже 1981 году, второй — 10 ноября 1982 года, в самый день смерти Брежнева. Удалось добыть и отпечатать портреты Ходасевича. До меня его никто не комментировал; комментарии, вместе с Айдесской прохладой, составляли изюминку книги, хотя, конечно, и более полного собрания до той поры не существовало. Стихотворные переводы Ходасевича вовсе не были известны; я собрал их по крупицам. В этом помог мне Дима Северюхин, молодой человек, прежде ничем литературным себя не запятнавший. Явился он от Кобака с какими-то замечаниями по моей статье. Я сделал благородный жест: пригласил Северюхина участвовать в парижском издании, написать для двухтомника статью о переводах; и он написал. Хорошо помню, что эта моя готовность поделиться была встречена (им и другими) с некоторым недоумением. А иные считали, что Северюхин — мой псевдоним (Владимир Эрль, например).
Блок в свое время издал и прокомментировал стихи Аполлона Григорьева. Манера этих комментариев мне не нравилась, а подход казался правильным: нужно не крючкотворством заниматься, а говорить о стихах и поэте, и вместе с тем — о человеке вообще. Обычный литературоведческий комментарий устроен дико. Он каждым словом говорит читателю: не суйся, это не тебе, это специалистам. Глупое и пошлое начетничество; игра в сокращения (в наукообразие); мол, мы серьезные люди: посмотрите, как ловко мы затруднили для вас чтение и спрятали смысл. Этого мне не хотелось. Смеху ради (но и точности ради) я кое-где сообщал о месте первой публикации стихотворения, если сам его обнаружил: бросал кость своре, а себе тем самым высвобождал скромное пространство, чтобы сказать несколько слов о главном. Метил я при этом не в каждого литературоведа, не во всё присяжное литературоведение в целом. Якобсон, Тынянов, Эйхенбаум, Лидия Гинзбург — не опровержение моему недоверию к этой касте. Литературовед может и должен быть авантюристом: мыслителем, писателем. Но где же эти качества у рядового академического литературоведа? Что это за феномен такой: корсар на зарплате?!
Весной 1983 года, в другой кочегарке, «на Уткиной даче» при слиянии Охты и Оккервиля, получил я от своего сменщика первый типографский том парижского Ходасевича — и успел показать его лежавшей при смерти матери.
В июне 1984 года, оказавшись (после долгих лет отказа) в эмиграции, я тотчас написал Нине Берберовой (1901-1993) в Принстон; подруга Ходасевича преподавала там русскую литературу. Мой двухтомник она знала и, в целом, одобряла; в статье отметила два-три сомнительных места. Мы обменялись несколькими письмами, но едва наметившаяся между нами эпистолярная дружба вскоре оборвалась. Берберова, среди прочего, писала, что «в западных университетах литературу изучают, как химию». Я был задет за живое и ответил резко: что литература не формой жива, а нравственным наполнением, отсутствующим в химии; что литературоведы, с их пошлым наукообразием, не видят главного — в принципе не способны видеть это главное, и слишком часто вообще не понимают стихов. Было и другое: Берберова предложила мне передать собранные мною материалы американцу Малмстеду, готовившему многотомное собрание Ходасевича. «С чего бы это? — спрашивал я ее в письме. — Я рисковал, работал в жутких условиях, а эти сидят на зарплатах — и когда в СССР приезжают, перед ними все архивы открыты…» Берберова ответила вопросом: «Отчего все эмигранты из России так надменны?» Последней каплей стал обмен сборниками стихов. Берберова прислала мне свой с дарственной надписью: «Нина Берберова — Юрию Колкеру». Я не остался в долгу: свой, только что вышедший, отправил ей со словами: «Юрий Колкер — Нине Берберовой». Сделал это не из надменности; не только из надменности. Рассуждал просто: поэт ведь царь, а у монарха нет возраста. На этом дело и кончилось. В 1986 году она не пригласила меня на конференцию по случаю столетия Ходасевича. Думала, верно, досадить мне, но промахнулась; я жил не этим. Занятие Ходасевичем позволило мне разом выговорить мою эстетику (а значит, и этику) на стихах любимого поэта; только и всего.
В ленинградском полуподполье Ходасевич еще резче отдалил меня от mainstream'a, закрепил мое эстетическое одиночество. В машинописных журналах Часы и Обводный канал появились на статью возражения, которых я так никогда и не прочел.
Мы в ту пору были серьезные люди: серьезно относились к своему полуподпольному сочинительству. С каменной серьезностью. Верили, что принадлежим истории. Шло это, хм, из советской литературы. Большевизм дивным образом законсервировал в нашем сознании XIX век. Все мы жили в заповеднике. Знали (вместе с большевиками и со всем советским народом), что литература — грозная сила; думали, что мы — сила. Всеобщая грамотность перевернула мир, стерла границу между писателем и читателем, разжаловала священнодействие в ремесло, авгура — в сапожника, — а Россия, спасибо соцреализму, ничего этого не замечала до Марининых и Дашковых.
Одно очень серьезное предприятие было затеяно по инициативе часовщиков: 26 апреля 1981 года Борис Иванов предложил мне, в компании с Эдуардом Шнейдерманом и Светланой Вовиной (она же Нестерова и Востокова), заняться составлением поэтической антологии непечатных ленинградцев. Десятого мая мы сошлись втроем в мастерской скульптора Любови Добашиной, жены Шнейдермана; и дальше встречались там же. Пятнадцатого мая добавился четвертый заговорщик: Вячеслав Долинин. Как он оказался в этой хунте? Как представитель мирян. Остальные трое писали стихи, его же с поэзией связывала, главным обрназом, подруга Лена Пудовкина (которая, тем самым, негласно участвовала в составлении антологии). Как оказался я? Для баланса и для четности. Серьезность предполагает представительство, а консерватизм, воинствующий консерватизм, представить было больше решительно некем; я один с гордостью называл себя реакционером. В дневнике сохранилась запись от 11 июля 1981 года: «Реакционер — человек, воспринимающий опыт, реагирующий. Меньше всего реагирует камень, сталь, больше всего — живое…». Правда, Вовина тоже тяготела к правому крылу в эстетике, но до моего ретроградства и пуризма не опускалась. В целом часовщики неплохо уравновесили бригаду. Шнейдерман относился к традиции почти с таким же отвращением, как я — к новаторству; Долинин, своей эстетики не выстрадавший, жил политической борьбой, верил, что «ветер дует слева». Получалось двое на двое. С каждой стороны — по одному бешеному и одному умеренному.
Светлану Вовину я до этого предприятия ни разу не видел, не слышал ее имени. Оказалась она старше нас с Долининым, моложе Шнейдермана, умна и хороша собою. С некоторой оторопью я узнал, что она четыре раза была замужем; вот, подумал я, жертва своей красоты. Шнейдерман отличался изумительной мягкостью и неправдоподобной корректностью. Долинин был сух, я задирист.
Мастерская помещалась в полуподвальном помещении во дворе 19-го дома по Шпалерной, как раз напротив Шереметевского особняка, тогдашнего Дома писателя, которому мы кукиш собирались показать. Была она уставлена скульптурами из шамотной глины. Глядя на них, я вспоминал слова моего пращура, адмирала Александра Семеновича Шишкова (1754-1841): «доброта вещества много способствует искусству художника», но держал их при себе, в чужое дело не лез. Там, среди диковинных модернистских монументов, мы заседали в течение года, собирались не реже чем раз в две недели, работали старательно, — и, против всяких ожиданий, довели дело до конца. Получился солидный том под названием Острова. Антология ленинградской неофициальной поэзии. Составители: А. Антипов [Долинин], Ю. Колкер, С. Нестерова [Вовина], Э. Шнейдерман. Л., 1982. Почему «неофициальной»? Слово это предложил Шнейдерман, оно же было на устах у часовщиков. Точнее было бы сказать: неподцензурной. Не помню, кто нашел имя для антологии, по-моему, удачное или, во всяком случае, выразительное. Взято оно из Константина Вагинова: «На островах блаженных есть город Петербург…»
Работали мы честно и — exegimus monumentum, воздвигли памятник. Получилось четыреста с лишним страниц. Просмотрено было 6200 стихотворений, 172-х авторов за годы с 1949 по 1980-й. Много это или мало? Мало. Пишущих — были тысячи, многие тысячи. Тысячи пропали бесследно. Так уж русский язык устроен, что от соблазна не уберечься. Пишут все. В быту, ни о какой поэзии не думая и не слыша себя, мы нередко говорим чистыми ямбами и хореями, по одной, по две строки кряду; а то и трехсложниками. Писать стихи на этом языке — простейшее из умственных упражнений (другое дело, что это не совсем упражнение и не совсем умственное). Отсюда и соблазн. Где гарантия, что уцелевшие лучше пропавших?
С другой стороны, 172 автора — много, слишком много. Сколько поэтов бывает в поколении? Читательское сознание не способно вместить более двадцати имен; иначе — слово поэт девальвирует. Считаем по десять лет на литературное поколение: выходит — по шестьдесят только в замшелом Ленинграде. Вздор. Куда столько?! Откуда эти стройные ряды? Но перед нашими глазами был союз писателей, где поэтов числилось если не больше, то всё же много до несуразия. Для этого ведь, по умолчанию, антология и затевалась; чтобы показать: нас много, мы — целая литература.
Отобраны в антологию были из 172-х авторов только 79. Уже легче. Перечитываю список. Некоторые и сейчас на слуху — но слух нужно иметь чуткий. В сущности, самые громкие имена, исключая Бродского, — не более чем тихие шаги за сценой. В гремучую обойму не вошел ни один. Разве что Евгений Рейн, но на то он и москвич.
Тут всем нам урок. И не только нам. Во-первых, не стоит быть слишком серьезным, особенно по отношению к себе. Во-вторых и в главных, стихи — маргинальное занятие; они пишутся немногими для немногих. Времена властителей дум канули безвозвратно. Времена, когда Евтушенко стадионы собирал, исключаем из рассмотрения; люди не за стихами сходились, а за свободой (футбол тоже был глотком свободы, выходом из круговой поруки лжи). Когда перестали сажать за метафору, интерес к стихам в России упал почти до нуля: читай — до нормы. Здоровому человеку стихи не нужны. Богатство народов и их взрослость направлены против этого детского занятия, тесно (хоть и не прямо) связанного с верой. Бога от поколения к поколению становится в мире всё меньше, Бог убывает — и вместе с ним убывает поэзия. С этой печальной истиной нужно смириться совершенно так же, как с мыслью о своей смерти. Взрослым — не до стихов.
В любом коллективе есть лидер. У нас им естественно стал Эдуард Шнейдерман. Он был старшим; собирались в его мастерской; он проявил больше терпения и серьезности, чем другие; менее других под конец остыл к этому предприятию; вызвался написать предисловие к сборнику, и никто этого права у него не оспорил. Мне, когда статья появилась, хотелось поправить и переписать его серьезный текст, но я махнул рукой. Там всё правильно, всё честно… «Главный критерий отбора был качественный. Составители стремились чутко вслушаться в голос поэта, уловить его своеобразие… При отборе авторов мы руководствовались следующими принципами… для поэтов, выбывших из Ленинграда в разных направлениях…» Серьезный язык. Но я сдержался. В антологию вошло столько авторов, казавшихся мне голыми щапами, что я под конец уже не считал это предприятие своим.
Отбирали мы не имена, а стихотворения. На каждом каждый ставил плюс или минус. Исходили из того, что иные авторы скорее слывут поэтами, чем являются. Здесь, разумеется, действовало задетое самолюбие: из нас-то, из составителей, к тому времени никто не добился даже «широкой известности в узких кругах», как Елена Шварц или Кривулин. Этот подход, «качественный критерий» Шнейдермана, как раз согласовался с тем, ради чего часовщики затевали антологию: им, думаю, хотелось сказать городу и миру, что ленинградское полуподполье дало не одного Бродского.
Дошло дело и до наших собственных стихов. Я к этому времени (к этому возрасту) уже умел не придавать большого значения суду товарищей по несчастью. Хлебнул и понял: пусть говорят. Без такого иммунитета в литературе не выжить. Готовился снести пытку молча — и снес почти молча, не удержался только, когда Шнейдерман предложил не включать одно мое стихотворение, со строкой «Не прозябает злак», на том основании, что злак не может прозябать. Тут я взвинтился:
— Как? Вы, филолог по образованию, не знаете, что первое значение этого слова — прорастать?!
Я даже не за себя вступился: обидно было сознавать, что Шнейдерман не прочел Боратынского. Сейчас я знаю, что это типично; что вся Россия не прочла Боратынского, а мне он казался, да и сейчас кажется, вторым по значению поэтом за всю короткую историю русской литературы. Шнейдерман неожиданно ретировался, не возразив:
— Если так, то я ставлю плюс. — И стихотворение попало в антологию, а больше никуда не попало. В сборники я его не включал.
Когда дошло до отбора стихов Светланы Вовиной (Востоковой), я увидел в ее глазах неподдельную горечь. Пишущий в столбик всегда живет надеждой на внезапное признание, даже на восхищение: на меньшее не согласен, особенно засидевшийся; а тут отбор показал разве что наше уважение к ее музе. Даже у меня, человека эстетически близкого, ее стихи живого отклика не вызвали (как, впрочем, и мои у нее). Мне было довольно того, что она пользуется усеченной рифмой, которая в традиционных стихах меня коробила еще сильнее, чем авангардистских. Последовало взаимное охлаждение. А ведь мы сходились во многом. Ни тогдашние подпольные кумиры вроде Кривулина и Елены Шварц, ни дутые классики вроде Хлебникова почтения у нас не вызывали. Насчет Хлебникова мы с нею сошлись на том, что никогда бы не включили его в Острова…
«Конец антологии» мы отмечали 21 ноября 1982 года в мастерской у Любы, в подвале дома 19 по улице Воинова. Присутствовали: Люба, Эдик, Света и мы с Таней. Долинин отсутствовал: ждал суда в тюрьме предварительного заключения на той же улице (был арестован 22 июня 1982 года, судим 28 марта 1983 года). Незадолго перед «концом антологии» Люба начала скульптурный портрет Светы; мы пили под его (портрета) глиняным взглядом…
Судьба разводила составителей. Мы с Таней эмигрировали 17 июня 1984 года. В 1990-е годы наездами — уже не в Ленинграде, а в Петербурге, — видели Долинина и Шнейдерманов, а Вовину занесло на Гавайские острова. В начале нового века мы с нею некоторое время переписывались, потом она пропала.
В справке, которую Светлана Вовина написала о себе для сетевого альманаха Еврейская старина, я с некоторым удивлением прочел: «Была членом неофициального клуба писателей ("Клуб 81") вместе с В.Кривулиным, Еленой Шварц, О.Охапкиным и др. Публиковалась в неофициальном журнале "Часы". Опубликовала цикл стихов в сборнике этого же клуба — "Круг", изданном ленинградским отделением Союза писателей в 1985. Эмигрировала в США в 1990 году. Сейчас живу в Гонолулу, стала художником…»
Что ж, упомянуть Кривулина и Шварц значило двумя мазками указать свой круг, дать понять, откуда ты родом. Прием законный. Воспользуюсь и я этим приемом и этими культурными верстами, чтобы отгородить свой угол: именно с Кривулиным и Шварц я никогда не хотел иметь ничего общего. Чуждые эстетически, они и по-человечески были мне чужды, а с ними — и весь их круг. Мне казалось, что «там грязно». Конечно, грязь всякий понимает в меру своей испорченности. Мне, например, грязью и пошлостью казалась беспорядочность половых связей. Другой мог, вероятно, назвать грязью мой отказ от России, мои еврейские интересы.
Впечатления, на которое могли рассчитывать часовщики, антология не произвела. Кажется, никогда и напечатана не была, только вывешена в интернете.
В том же 1981 году было затеяно другое странное предприятие. Не вполне ясно, кто первый дернул за ниточку: литературоведы в штатском или самиздатчики. То есть когда дело дошло до воплощения, инициатива, естественно, шла сверху. Снизу без разрешения ничего сделать было нельзя. Социализм — это когда всё нельзя, кроме того, что можно. Но косвенно надоумить верхних могли нижние. В ту пору советская власть уже так одряхлела, что граница между теми и этими была размыта.
В один прекрасный день, по наитию или по наводке, наверху решили: создадим полупрофессиональное объединение неподцензурных авторов — и тем самым нейтрализуем их, сделаем подцензурными. Они не будут тревожить сон советского Святогора, не будут печататься за границей и дискредитировать наше социалистическое отечество, и без того катящееся в тартарары. Они перестанут казаться героями и там, и тут. Мы именно покажем, что они — никакие не герои. За право напечататься они на брюхе станут ползать. Что-то такое могло брезжить в тусклом сознании ленинградского КГБ.
В конце 1980 года случился обыск у вождя поэтов Виктора Кривулина с выемкой материалов машинописного журнала Тридцать семь. Этот журнал власть прикрыла (а другой толстый журнал, Часы, не тронула, хоть он был в гораздо большей степени на виду). Рассказывали, что гэбисты, прикрывая журнал, предложили Кривулину в качестве альтернативы нечто вроде дискуссионного клуба, а он, будто бы, отказался. Точно известно, что 7 декабря, телефонным звонком на Запад, Кривулин оповестил мир о создании в Ленинграде свободного культурного цеха на правах профсоюза. Никакого цеха, естественно, не было. Слова о профсоюзе прозвучали несколько неадекватно: подпольные литераторы как раз не были профессионалами, поскольку ни копейки не зарабатывали своим литературным трудом. Да и чем были профсоюзы в СССР? Тенью, фикцией. Словечко цех тоже не казалось уместным. Конечно, оно отсылало к Гумилеву и Цеху поэтов, но ведь и во времена Гумилева в нем чувствовалось приспособленчество, «присяга чудная четвертому сословью», а уж в 1980-м оно звучало просто дико. Но в журнале Часы идея понравилась. Этот журнал был смирный, почвеннический. Есть «культурный процесс»; мы, честные служители русской культуры (и патриоты), должны его отражать, мы послужим Богу и отечеству, а власть дразнить не станем, она «ведь тоже русская земля», — вот что угадывалось за обложкой Часов. Пускаясь в авантюру, часовщики могли думать так: мы их, КГБяк, в итоге обманем и перешибем, потому что талант говорит сам за себя, и талант — с нами, мы ведь талантливы; а пока для виду уступим. Что ж, сделка как сделка. Каждая из сторон исходит из своей выгоды, из своей сокровенной мечты.
Между литераторами и гэбистами начались телефонные разговоры и встречи. Позвонили, будто бы, гэбисты в котельную на улицу Плеханова, где у газового котла дежурил прозаик Борис Иванович Иванов. С этого и пошло. Начался обмен делегациями. Позже Иванов отрицал какую-либо инициативу сверху, называл Клуб-81 победой общественности над КГБ; но инициативу снизу (звонок из котельной в Большой дом) вообразить труднее — и еще труднее понять, какая из двух инициатив почетнее для писателя. Договоренность между высокой и низкой сторонами была достигнута.
Клубу отвели для собраний лекционный зал музея Достоевского и большую пустовавшую квартиру на улице Петра Лаврова 5. Над клубом поставили надсмотрщика (куратора): научного сотрудника Пушкинского дома, инструктора ЦК КПСС по литературной части, доктора наук, члена союза писателей — не забыл ли я какого титула? — Юрия Андреева, тут же прозванного Андропычем. Человек был что надо, ни дать ни взять. Моллюск чистой воды. Был составлен список из примерно 80 предполагаемых членов клуба, куда и меня включили без спросу. На организационное собрание пришло человек тридцать. Инициаторы выдвинули внушительную культурную программу, далеко перекрывавшую область собственно литературную. Например, предполагалось прослушивать и обсуждать классический джаз (среди людей, близких к инициаторам, были музыкальные критики и пианист-виртуоз Курёхин). Джаз! Одного этого хватило бы, чтобы я никогда в клуб не вступил. Неужто писатели не понимали, как это смешно? Посещайте кабаре или оперу, воля ваша; катайтесь на лыжах, собирайте марки, ходите к проституткам в свободное от работы время, — но, бога ради, при чем здесь писательство?
Зачитали проект устава клуба, полный унизительных двусмысленностей и недомолвок. Требование отказаться от зарубежных публикаций, однако ж, было в нем сформулировано совершенно открыто. Как тут не умилиться? Перед паном Фёдором ходит Мойше ходором… Но это бы ладно; это можно было бы понять с почвеннических позиций: решили писатели послужить Богу и отечеству, отвернулись от прогнившего Запада. Однако вожди предприятия, как вскоре выяснилось в кулуарах, вовсе не считали этот пункт обязательным для себя и других членов клуба. Хорошенькое сотрудничество! Сверху власть, вся насквозь беззаконная, закон попирающая, снизу — вольнолюбивые писатели, понимающие волю как беззаконие.
Дальше на собрании обсуждали предложение просить приравнять участие в клубе к общественно полезной деятельности. Обсудили и отвергли. Верхам это не годилось, потому что такая деятельность предполагает профессию, а не клуб. Низы догадались, что такой клуб поставит вне закона тех, кто в него не вошел. Не состоишь в клубе — отправляйся в исправительную колонию как тунеядец.
Слушая прения, я пытался понять, что мне и другим может дать этот клуб и творческом отношении, и не находил ответа. Легальные собрания и выступления? Неясно, чем хуже квартирные чтения. Если ты написал что-то значительное, слушатели — в этом не было сомнений — найдутся. Коллективные публикации? Но цензура-то никуда не девалась. Публиковаться, хоть и крайне трудно, можно было в СССР, и в одиночку литератор сохранял больше свободы, осуществлял себя в обход советской власти, а не в силу объявленного соглашения с нею, да еще в сомнительной компании, связанной внутренними обязательствами и любовью к джазу. Самиздат тоже оставался налаженной формой публикации. Эрика берет четыре копии, даже шесть. Выходило, что истинные мотивы верхушки клуба — дурной коллективизм, желание заседать и председательствовать, тесня младших по возрасту и рангу; и — с другой стороны — коллаборационизм, признание пусть лишь временно совпадающих, но все же общих с режимом целей. Я же в котельные уходил не для сближения, а для разрыва с этим режимом.
Подписать устав я отказался, но еще некоторое время получал по почте приглашения и два-три раза побывал на собраниях клуба. В эти редкие посещения поразил меня покровительственно-начальственный тон членов правления клуба в обхождении с рядовыми участниками, и у тех же членов правления — смесь подобострастия и дерзости перед Андропычем. До сих пор вижу, как верлибрист Аркадий Драгомощенко с искательной улыбкой и в полупоклоне пожимает руку сытому, улыбающемуся надсмотрщику.
Я тоже ему жал руку — не надсмотрщику, а верлибристу. Мы познакомились в июне 1980 года в котельных (Драгомощенко кочегарил), сошлись как товарищи по несчастью и братья по нищете, как обездоленные сочинители. Я не имел случая заблаговременно заглянуть в его сочинения, не слышал о нем прежде. Заглянув, о рукопожатии и братании пожалел. Это была продукция на экспорт (в точности как в анекдоте о знаке качества на попах новорожденных евреев), адресованная прямо западным славистам для их диссертаций, в обход читателя. Расчет был безупречный: темнить, сколько есть сил, в лукавой уверенности, что истолкователь найдется. Темнить и тянуть влево по части эстетики. Именно это и требовалось в Сорбонне или в штате Колорадо. Колорадский жук, получив тексты, печатал статью в университетском вестнике о гонимом поэте, не находящем признания на родине, потому что он, поэт, на столетие опережает своих современников, дикарей и неразумных хазар. Статья попадала в Россию. В ней черным по белому значилось: leading Russian poet — и дело было в шляпе. Это ведь напечатано, оттиснуто типографским способом! Сейчас не объяснить, что в ту пору значила для всех печатная продукция. Она, без преувеличения, фетишизировалась. Что напечатано, то правда. А если на Западе напечатано… К Западу, понося его открыто, даже большевики относились с тайной почтительностью, а уж гонимые, протестующие, фрондирующие прямо верили, что оттуда солнце встает. Выходило, что Драгомощенко поэт, с ним нужно считаться.
Я оказался в неловком положении. Дружеские чувства были заявлены, а признать его сочинения стихами оказалось выше моих сил. Нужно было объясниться. Шестого января 1982 года он выступал в музее Достоевского. Вернувшись домой, я написал ему письмо:
«Дорогой Аркадий, пишу тебе, потому что испытываю настоятельную потребность прояснить и закрепить мое отношение к тебе и твоим стихам… Ты, несомненно, один из самых умных и образованных людей, с которыми меня столкнула судьба. Несомненна для меня и твоя поэтическая одаренность. Но я убежден — знаю это всем своим существом — что то, что ты предлагаешь читателю и слушателю, это не стихи. Я убежден, что они абсолютно не жизнеспособны, не существуют вне авторской интерпретации, не живут самостоятельной жизнью. Вот это мое отношение, слабо мотивированное, но выношенное и оформившееся, я и высказываю всем, кого мое мнение интересует. Кривотолки в литературных кругах неизбежны, а интриг, лицемерия и дипломатии я не выношу. Мне важно, чтобы ты получил мое мнение из первых рук. Оно высказывается всегда именно в такой форме, с единственной оговоркой: я не гений, и гениальное может оказаться за пределами моего понимания.
Мне трудно представить себе, что это письмо не испортит наших отношений, которые считаются дружескими, но я всё же надеюсь на это. Тем более, что считаю себя твоим должником за южную поездку 1981. Но я освободил свою совесть, а прямая конфронтация, на мой взгляд, лучше двусмысленной дружбы…»
«Южная поездка» летом 1981 года была в Алупку, где Драгомощенко заблаговременно снял для нас комнату — на самом верху, на Севастопольском шоссе, 11, по 5 рублей за ночь. Ехать было необходимо из-за дочери Лизы, страдавшей нейродермитом. Действительно, ей климат помог; короста на руках и лице начала спадать. Едва мы приехали, Драгомощенко, нас встретивший, сказал мне:
— У меня для тебя подарок. Обернись.
Я обернулся и обомлел: надо мною возвышался Ай-Петри, сбросивший на минуту облака. Картина была завораживающая.
Кроме Драгомощенка, был там Сергей Коровин, прозаик из Клуба-81, невероятно артистичный острослов, у нас в семье тотчас получивший прозвище Корёжа. Купались вместе. У моря была скала; с ее площадки, метра в четыре высотой, полагалось прыгать солдатиком. Мы залезли туда втроем, взялись за руки, Коровин скомандовал: раз, два, три. Эти двое прыгнули, а я струсил, стоял еще секунд тридцать — пока не сказал себе: лучше смерть, чем позор, и тоже прыгнул. Потом прыгал не раз, но позор никуда не делся, остался на всю жизнь.
По вечерам пили компанией. Тут выяснилось, что жена Аркадия, Зина, не может удержаться от антисемитских замечаний. Один раз я вспылил и ушел, а Таня осталась на некоторое время в компании — и принесла, вернувшись, презанятную фразу Зины:
— Они уезжают, а мы, может быть, тоже хотим!
Драгомощенко не уехал; остался «ведущим поэтом России».
Был там, в Алупке, хоть и не в нашей компании, еще один человек из Клуба-81: Женя Пазухин, христианский философ. Он водил экскурсии по Воронцовскому дворцу и другим достопримечательностям, а жил в хороших местах, внизу, ближе к морю, по адресу Приморская 1. Его хозяйку звали Инна Абрамовна Раппопорт — и тут уж нельзя было не удивиться… Или можно? Вспомним еще раз Чёрчилля: «Евреи — маленький народ, но в каждом конкретном месте их почему-то много»… О Пазухине молва передавала, что он себя называет умнейшим человеком России. Пушкину этот титул присвоил царь Николай I; Розанову — общественное мнение, народ; а Пазухин (если молва не врала), в духе нашего времени, не стал ждать милостей от природы.
Отказчиков, не подписавших устав Клуба-81, собрали в одной из котельных, — уговаривать. Правление клуба представляли Борис Иванов и Сергей Стратановский. Несогласных, кроме меня, оказалось пятеро, все — стихотворцы: Тамара Буковская, Елена Пудовкина, Владимир Ханан, Олег Охапкин и Владимир Эрль (Горбунов); присутствовал также литературовед-архивист Иван Мартынов, к этому времени уже диссидент и фрондёр, устраивавший у себя в коммуналке Гумилевские чтения, но к участию в клубе не приглашенный. Помню долгие и бесплодные споры, сцены нетерпимости и непонимания. Пятеро остались при своем; Олег Охапкин подписал устав и быстро сделался одной из наиболее заметных фигур в клубе.
Однажды Клуб-81 мне помог. Пойти на суд над Долининым (28 марта 1983 года; его судили вместе с Ростиславом Евдокимовым, писавшим под псевдонимом Вогак) было делом чести. В толпе желающих на Фонтанке я увидел Тамару Буковскую, Бориса Лихтенфельда, Сергея Стратановского, Елену Пудовкину. К двери судебного зала я протиснулся в числе первых. Спешить нужно было потому, что если б места в зале не оказалось, меня бы выпроводили. Перед входом в зал мы наткнулись на кордон. Потребовали паспорта. Я предъявил — и меня пропустили как члена клуба! Фамилию мою блюстители знали, а что я не согласился участвовать, не знали… Кроме обвинений — связь с НТС, публикации в Посеве, бюллетени СМОТа — ни слова из постыдного судопроизводства я не запомнил. Сидел с мыслью, что попусту трачу время на noblesse oblige. Разве неясно было, чем суд кончится? Мог ли я повлиять на его исход? Суд был шемякин, как всегда в России. Долинину дали три года. Еще во время следствия, 18 апреля 1983 года, его покаяние показывали по телевизору. Передача называлась В паутине лжи; большевики всегда умели возвести на честных людей то, что только к ним самим относилось. Сперва я подумал: заплечных дел мастера могут сломать любого; Долинин слабым человеком не казался. Потом сообразил, что Евдокимова показали только в зале суда. Он сотрудничать с головорезами не стал, а ведь у него тоже была мать…
Лишь в конце 1983 года удалось, наконец, Клубу-81 провести парадное выступление своих поэтов в Доме писателя на Шпалерной. Актовый зал был переполнен, публика (почти вся сплошь из сочинителей) толпилась на лестнице. Мне дали отпечатанную типографским способом программку, в которой значилось: выступают члены литературного объединения Клуб-81. Лишь человек, долгие годы наблюдавший тамошнюю литературную жизнь, мог оценить, сколько уничижительного смысла вложили организаторы в эту формулу. Никакими усилиями не удалось заставить Андреева ввести в название Клуба слова писатели или хотя бы литераторы. Это были государственные звания, которыми удостаивали сверху, — как в Китае: государственный поэт первого ранга, государственный прозаик второго ранга. Отдадим должное надсмотрщику: он защищал не только партийную, но и народную точку зрения. Народ и партия были едины не на словах, а на деле. Еще до выезда цугом, в скромном музее Достоевского, в вестибюле, посетитель спросил как-то, здесь ли выступают писатели; гардеробщица возразила: нету тут никаких писателей; посетитель предъявил приглашение.
— А! — откликнулась она, — эти-то, самодельные? Здесь, проходите.
Потому-то в программке парадного выхода и нельзя было употребить слово поэты. Окажись в зале непосвященный, он бы не знал, ждать ему стихов или прозы. Но словосочетание литературное объединение было уже просто плевком: авторов, поседевших в писательстве, приравняли к членам рассеянных по городу любительских кружков, собиравших юнцов и пенсионеров и доставлявших легкий хлеб их руководителям, членам настоящего союза писателей.
Едва сообразив это, я увидел, как Андреев выводит на сцену своих птенцов: Ольгу Бешенковскую, Елену Игнатову, Елену Шварц, Сергея Стратановского, Олега Охапкина, Виктора Кривулина, Эдуарда Шнейдермана, Виктора Ширали, Бориса Куприянова, Владимира Нестеровского и Аркадия Драгомощенко. Почему этих, а не других? Вопрос деликатнейший. Ответа на него нет, репутации в самиздате складывались еще более неисповедимыми путями, чем в подцензурной литературе, где хоть число публикаций могло выступать критерием.
На сцене — избранных ожидали новые унижения. Куратор предварял каждое выступление краткой характеристикой автора. Все авторы (лучше знакомые аудитории, чем ему) оказались у него людьми хоть и не бездарными, но все же еще далекими от подлинного мастерства и профессионализма. Они еще не оперились, не осознали. Но что же читали эти сорокалетние недоросли? Удивительное дело! Они читали не лучшие и, в основном, старые свои вещи. По окончании вечера Стратановский, а за ним Игнатова, не дожидаясь моего вопроса, подошли ко мне и рассказали одно и то же: было, мол, решено (или разрешено) читать лишь из сборника, составленного в 1981 году и теперь проходящего шлюзы Горлита. Выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением и очень захотел поскорее забыть этот паноптикум печальный.
Сборник, о котором шла речь, вышел в 1985 году под названием Круг. Я был уже в эмиграции и напечатал о нем заметку в приложении к Русской мысли. Раздел критики в этом сборнике вообще сняли — какая критика на тех, кто не печатается? В число авторов попали имена, мною никогда не слышанные. Исключив их, я подсчитал средний возраст участников поэтического раздела; он оказался в точности равен сорока. Старшему, Эдуарду Шнейдерману, было пятьдесят лет. Младший из участников, Валерий Слуцкий, был старше Лермонтова, а в аннотации к сборнику все его авторы названы молодыми. Среди стихов, в сборнике недатированных, я нашел сочинения 1960-х и 1970-х годов; одно из стихотворений ждало публикации 18 лет. Были в сборнике стихи неплохие и хорошие, но вообще он производил впечатление самое удручающее. Наконец-то советская власть позволила советским авторам (зарубежным, переводным и раньше разрешалось) публиковать стихи без знаков препинания. Ура. Ошеломляюще смелый эксперимент, восходящий к Аполлинеру (1880-1918), а по иному счету — к Библии. В других стихах преобладали надоевшая лесенка, по своему происхождению коммерческая, беспомощные, беспозвоночные верлибры, разнузданность и одновременно расслабленность в выборе тропов. Стихи часто темны — и видно, что не только для читателя, но и для авторов, уяснивших, какой простор для спекуляций несет в себе присущая всякому поэту приверженность тайне. Почти все время натыкаешься на что-то искусственное, надуманное и претенциозное. Дальше всех в этом направлении шел Борис Куприянов:
|
Смена до света огульных вершин Чтит шевеленья в губах сердобольных. Даже!.. и только тогда … порошки Пороха всхода течений продольных. Досыта в тоню наято седьмин, Захреботавших ветвей и плетений. |
Автор этого шедевра стал потом батюшкой, православным священником. Правильно сделал. «В стихах посредственность — бездарности синоним…»
Проза в сборнике тоже хоть куда: «В дрожащей улыбке таилась трагическая белизна зубов, в больших глазах под высокими бровями — вопрошающая жертвенная святость…» (Игорь Адамацкий). Вот когда я порадовался, что не влип в это дело — в этот клуб. Статью в израильском журнале Двадцать два я как раз и начал с брезгливого отмежевания: «Я никогда не был членом Клуба-81…»
В 1981 году приехал из Москвы Саша Сопровский, поэт из непечатных, семью годами моложе меня (ему было тогда 28). Знакомы мы не были, но Ханан и другие отзывались о нем лестно, среда была общая, Сопровский входил в столице в кружок Московское время — вместе с Сергеем Гандлевским, Бахытом Кенжеевым и ленинградцем Виталием Дмитриевым. Названию кружка я изумлялся. Неужели думающим людям оно не противно? В два слова преспокойно запиханы и квасной патриотизм, и советское верноподданичество, а ведь люди это были протестующие и талантливые.
Сопровского привели ко мне в кочегарку. Оказалось, он в Москве затевает предприятие под названием Вольное русское слово — то ли машинописный журнал, то ли клуб, а в Ленинграде обходит нашу полуподпольную братию и просит каждого заполнить анкету. Милое дело! О себе-то кто ж не рад рассказать? Моя анкета сохранилась. «Расскажите о вашем образовании». Я перечислил свои физико-математические регалии и добавил к ним семинар Кушнера на фабрике Большевичка, где бывали Ханан и Дмитриев и где я получил больше, чем получил бы на филфаке. С удивлением читаю о себе в этой графе мною же и написанное: «Первое, исключая детство, пробуждение религиозного чувства отношу к 1973 году. Годы 1974-78 окрашены толстовством. В настоящее время изучаю Тору…». Если изучал, то не шибко продвинулся.
Дальше шел вопрос о публикациях, еще дальше — такой: «Ваши литературные взгляды (пристрастия, традиции, отношение к современному литературному процессу). Поскольку вопрос этот не подразумевает однозначного ответа, вы вправе изменить постановку самого вопроса, ответ может быть сколь угодно распространенным». Ладно! Где наша не пропадала. Развернись, плечо.
«Я убежденный консерватор: будущее, если оно у нас есть, принадлежит нашему прошлому. Настало время собирать камни. Этот подход предполагает некоторый аскетизм и, уж во всяком случае, добросовестность и мужество. На плечи второй литературы тяжестью ложится теперь страшная и неизбежная ответственность: быть не только художественным творчеством, но и всепоглощающим духовным подвигом, — чем всегда и была русская литература, считая от Пушкина…»
Читаю — и смех душит. Прямо Эрфуртская программа какая-то. Как мы серьезно к себе относились! Как высока была русская литература! Поднебесная империя или Пятикнижие, если не выше. А Маринины и Дашковы, в бантиках, как раз в первый класс ходили или, может, еще не родились, но и не родившись уже показывали свой кукиш нам и русской литературе. Продолжаю эту скорбную повесть:
«Идеей первой, русско-советской литературы [словечко специальное, очень моё, устроенное по образу и подобию слова немецко-фашистский; жаль, никто не услышал] еще на днях было честное идолопоклонство: сейчас ее идея — кормушка, маска сдернута. Но я не уверен, что мы — наше и два соседних поколения катакомб — способны должным образом воспринять и вынести священное иго русской литературы. Вслед за Ходасевичем (1921) я решаюсь повторить "Дай бог, чтоб хоть некоторым из нас, в меру их дарований, оказалось под силу стать воистину русскими писателями…" По моему убеждению поэт и в сокровеннейших помыслах не должен видеть в себе пророка — только на этом условии его писания, быть может, приобщатся пророчеству. Талант не освобождает его ни от одной из общечеловеческих обязанностей, не оправдывает ни одного порока…»
В сущности, за один этот трубный глас ленинградский КГБ, в недрах которого как раз созревал гениальный Путин, должен был дать мне поблажку и отпустить на волю. Может, в итоге это и сработало? А наша полуподпольная братия могла увидеть в подобных словах предательство — да и видела, пожалуй; я ведь и раньше твердил, что больших дарований не вижу ни среди гонителей, ни среди гонимых. И там, и тут мыслили шаблонами, взятыми с разным знаком. Ни те, ни эти не понимали, что можно быть ни с теми и ни с этими. Большинство не в состоянии отрешиться от злобы дня, мерит всё сегодняшней меркой. Для большинства нет истории.
Дальше там так написано:
«Мой любимый поэт XX века — Владислав Ходасевич. Вслед за ним могут быть названы несколько общих и дорогих всем нам имен. Среди современных поэтов я не вижу — возможно, вследствие близорукости или неровностей рельефа — дарований, способных без оговорок встать в один ряд с гигантами XIX века. Некоторые, впрочем, прочитаны мною не в должной полноте. Всё же отмечу несколько имен, принадлежащих моему поколению и вызывающих у меня полное доверие; это Валерий Скобло, Сергей Стратановский, Татьяна Котович, Елена Игнатова, Леонид Бородин (Новочеркасск) [настоящее имя Леопольд Эпштейн], Олег Охапкин, Зоя Эзрохи…»
Что этот плач Иеремии попал в руки литературоведов в штатском, известно — редкий случай — с полной достоверностью. Пьяного в стельку Сопровского взяли прямо на вокзале, когда он в поезд садился, а с ним — и всё Вольное русское слово.
В 1983 году Сопровский появлялся опять, на этот раз — с женой Таней Полетаевой. Мы гуляли в Летнем саду и говорили взахлеб.
Перед нашим окончательным отъездом (за границу, в эмиграцию), 1 мая 1984 года, мы с Таней ездили в Москву, останавливались сперва у родственников, а потом в Юрловском проезде, у Сопровского и его жены Полетаевой, как раз собиравшейся рожать. Саша вручил мне стихи, посвященные Игнатовой, — для передачи адресату. С места в карьер мы сцепились языками. Какая литература без сплетен, зубоскальства и сведения счетов? Любой поверхностный разговор — продолжение борьбы за свое, неизъяснимое. Я хвалил стихи Бахыта Кенжеева, недавно перебравшегося в Канаду; Сопровский сетовал на его излишнюю осторожность, на то, что он не помогает оставшимся, говорил о взлете и падении его музы в Канаде, о том, что в стихах он будто бы является сателлитом Алексея Цветкова, а к политике индифферентен, не в достаточной степени ненавидит советскую власть; а в довершение всего — что эмигранты с ним не дружат (выехал Кенжеев не как эмигрант, а по женитьбе). Выпив, читали друг другу стихи. Я прихватил с собою Айдесскую прохладу. Сопровский тотчас на нее накинулся и прочел залпом; я сел за его сочинения: стихи, статью о книге Афины и Иерусалим Льва Шестова и о стихах Галича. Пить приходилось по-черному. Я справлялся, а Таня (моя) не выдержала, вернулась в Ленинград.
Сопровский служил церковным сторожем. В его отсутствие Таня Полетаева водила меня по Москве, рассказывала о достопримечательностях, — как, нужно полагать, не раз делала, ублажая жадное любопытство провинциалов, а я изумлялся тому, до какой степени мне всё это чуждо и неинтересно, но, конечно, молчал, терпел из вежливости. В ту пору я не понимал, за что я так не люблю Москву; не понимал даже, что не люблю ее. Понял много позже, когда внимательно пересмотрел русскую историю. У меня вышло, что этот город принес России больше горя, чем Орда, которой этот город наследовал в большей мере, чем Киеву.
Третьего мая, оставив Полетаеву в Москве, не верящей слезам, мы с Сопровским отправились в Звенигород, точнее, в Мозжиловку, на дачу к Вите Санчуку, поэту. Оказался он не совсем из нашей рваной братии. Дача была монументальная, с паровым отоплением и ванной, — и принадлежала его деду, Исааку Израилевичу Минцу, историку КПСС, дважды лауреату сталинской премии, академику. По дороге туда мы купили две бутылки водки (за мой счет) и хлеба. В булочной я совершенно остолбенел, услышав:
— Дайте мне булку хлеба.
Сопровский понял мое изумление и расхохотался. Действительно, в Ленинграде под хлебом понимали только черный хлеб, а под булкой — только белый.
С Санчуком я едва успел познакомиться. Было не до этого. Едва доехав, принялись за дело: за пьянку. На следующее утро продолжали. Купили еще бутыль какой-то иверии. Спьяну играли в футбол (втроем!). Наконец, оборвали все нарциссы в саду академика-лауреата и поехали в Москву на Белорусский вокзал: продавать их. Продавали Санчук, Сопровский и Таня Полетаева, специально для этого приехавшая. Я стоял в стороне. Ко мне обратилась старушка, тоже нарциссами торговавшая. Завязался разговор — сперва о возрасте, ей оказалось 77 лет (мне она дала 29, умница), потом — о вечном, о Боге. Она рассказала об исходе евреев — через Черное море.
— Русские, — сказала она, — избранный народ. Он выбрал нас. Но он жалел и евреев.
Я осторожно напомнил ей, что в Писании не русские, а евреи названы избранным народом, на что она с улыбкой возразила мне доверительно:
— Сравните русского и еврея — небо и земля!
На это мне возразить было нечего. Подошла Таня Полетаева с большим брюхом, и старушка, узнав, что она — «со мной», подарила ей букет нарциссов (много лучше минцовских, уже проданных). Добрая душа! Разве еврейка подарила бы нам нарциссы?
Пошли в шашлычную у вокзала, взяли по два шашлыка на нос и две бутылки терека, на улице Горького еще бутыль купили, но тут Саша и Таня поругались (они вообще почти все время ругались), и Саша удалился, пошатываясь, а мы поехали в Юрловский проезд. Таня не сомневалась, что он угодит в вытрезвитель; но обошлось.
На другой день Сопровский повез меня на речном трамвае на Воробьевы горы, к Герцену и Огареву.
— Поклянемся и выпьем! — предложил он.
Мы так и сделали. Пили иверию, закусывали колбасой, купленной мною еще на вокзале.
Сопровский устроил мне квартирное чтение стихов. Прямо в моем присутствии он обзвонил несколько человек; разговор начинал словами:
— Приехал Юрий Колкер, один из лучших ленинградских поэтов…
Думаете, я млел от наслаждения, слушая это? Ничуть не бывало. Я не знал, куда себя деть, но не от скромности. На поверхности было то, что Сопровский меня толком не прочел и, в сущности, не мог судить о моих стихах. Это обесценивало его слова. Но это — сущий пустяк рядом с двуединым чувством, которое я сейчас постараюсь обрисовать. Вообразите идиота, буквально раздавленного мыслями о своем ничтожестве, пребывающего на социальном дне, считающего свою жизнь погубленной («Был скрипач Пали Рач — и нет его!») — меня. Как же мне было и не считать себя ничтожеством, если я всегда прикладывал к себе шкалу, у верхней отметки которой значились Данте, Гете, Пушкин? Я не мог и не хотел равняться на сегодняшнее, на сиюминутное, и вместе с тем оно было тут — и было нескончаемой чередой неудач. Ученый из меня не получился, стихи пишутся посредственные, былое вдохновение ушло. А в Ленинграде — Кушнер, Стратановский, Эзрохи, да мало ли еще кто; всех-то никогда не знаешь. Неужто я один из лучших? Я козявка. Это одна сторона медали. Переворачиваем медаль и видим, как из бутылки вырывается на волю джинн. Я чувствовал, что формулировкой — один из лучших поэтов — я унижен. Смилуйтесь, господа хорошие, и поймите: никогда поэт не согласится быть «одним из лучших», всегда — только лучшим, пусть с оговоркой, пусть хоть в каком-то смысле, но обязательно лучшим. «Таков, Фелица, я развратен…». У большинства это генетическое уродство не поднимается на сознательный уровень. Человек думающий и совестливый, о своем уродстве догадавшийся, никогда этого вслух не скажет. Не сказал и я. А сейчас скажу. Моя цель — характеризовать эпоху, среду и человеческую природу.
Вечер состоялся у какой-то Маши. Читал я не один, а в компании с графоманами Юрием Нетгуром и Марьяной Озерной (она прочла «почти эзотерическую» поэму о Клеопатре). Вернулись поздно, выпили и слушали голоса.
Стихи Сопровского, всегда хорошо написанные, казались мне ломкими, чуть-чуть искусственными. Помню из них одну-единственную ямбическую строку: «Горячий чай. Табачный дым…» Помню только потому, что эта картина домашнего уюта уж слишком не вязалась с моею; табачный дым, особенно дома, был для меня отрицанием всякого уюта да плюс к тому пошлостью. Приятели Сопровского, поэты Бахыт Кинжеев и Сергей Гандлевский, казались мне более одаренными. Но в одном Сопровский опережал их: он писал замечательную критическую прозу. Особенно мне запомнилась его статья о Галиче. Сам я Галича ни под каким видом на Парнас не пускал, но статье отдал должное: написана она была сильно, убедительно.
Когда я оказался за бугром, мы с Сопровским обменялись письмами. Он просил заказать ему вызов, что я немедленно и сделал — и в 1986 году мимоходом упомянул об этом в Париже, в редакции Континента, где Сопровского любили и охотно печатали. Редактору Владимиру Максимову это явно испортило настроение. У него сорвалось:
— Что, он тоже имеет к ним отношение?
Я объяснил, что его литературное имя — Александр Сопровский — построено на фамилии матери, а по отцу он Магергут.
Уехать Сопровскому не удалось, до новой России он не дожил. В 1990 году его сбила машина, когда он, по обыкновению не вполне трезвый, переходил улицу в Москве. Ему было 37 лет. Тот самый возраст, когда поэты гибнут или умолкают.
Как я вышел на отказницкие круги? Поразительно: память не возвращает одного из ключевых моментов всей жизни. Была русская литература; была моя погубленная жизнь, неудавшаяся научная карьера, нищета, борьба за существование; и вдруг возникло иное. Вижу сразу шумное сборище в квартире Гриши Кановича где-то в пригороде, и другого Гришу, блистательного Гришу Вассермана, докладчика. Он говорил об иудаизме, о котором я знал с гулькин нос; ровно столько, сколько можно извлечь из Иудейской войны Фейхтвангера. Вассерман сыпал парадоксами, одновременно ошеломляющими и достоверными. Публика была наэлектризована, оживлена и, хочется сказать, счастлива, а ведь всё это были отказники, люди, открыто порвавшие с режимом, бросившие вызов людоедам, годами сидевшие на чемоданах, рисковавшие. Чему люди радовались? Новой правде в стране кривды; своей неожиданно обретенной общности в стране всеобщей злобы всех против каждого; своей свободе. Сам Вассерман лучился счастьем приобщения, счастьем первооткрывателя (ведь он открывал новый мир, себе и другим). Но не только: еще и счастьем лидерства. Видно было, что он вождь по призванию; что к нему, умному и сильному, нашедшему себя, нашедшему почву под ногами в этом страшном распавшемся мире, тянутся за помощью и поддержкой. Я сам готов был кинуться к нему в ноги; записаться в подмастерья; чистить ему обувь — так он был убедителен… А между тем я чувствовал себя чужим. Там, за дверью квартиры, в советском раю, я был чужим из-за моей фамилии; здесь — из-за моей внешности. Что, если во мне видят подсадную утку, сексота? Ведь я никого толком не знал. Опять тот же вопрос: как я попал туда? На дворе — 1981 год, осень.
Собственно, самое начало этого пути приобщения я помню — из-за мучительной неловкости, стыда и чуждости, навсегда запавших в душу. Вызов, заказанный Вите Янгарберу в 1974 году, долго не приходил (а когда пришел, уж не знаю, через него ли, мы им плохо распорядились). Я повторял заказы всем уезжавшим знакомым и друзьям: Юре Гольдбергу и Ане Сарновской, Гале Йоффе и Грише Эпельману, Женьке Левину; другим, которых забыл. Опять ничего не приходило. Я написал в США Раисе Львовне Берг, той самой, из АФИ (до АФИ она работала некоторое время в Новосибирске, который называла Новодырском); она припомнила меня и помогла: нашла в Израиле Виктора Кагана (сидевшего в лагерях вместе с Солженицыным), тот устроил вызов, даже написал мне; замечательный оказался человек; соглашался быть дядей. После его письма нашелся и настоящий его племянник, Илья Вол, тоже из АФИ, где он появился в качестве аспиранта незадолго до моего ухода. Но это всё были знакомые или знакомые знакомых, в основном — из мира научного. Порвав с наукой и с этим кругом, я вовсе остался один.
Как-то в тяжелую минуту отправился я туда, куда отродясь не ходил: в синагогу на Лермонтовский 38. Был какой-то еврейский праздник. Молодежь во дворе резвилась с непостижимой, с недопустимой дерзостью: пела «Евреи, евреи, кругом одни евреи…». Замечательная была песня, ее не забыть: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды…» Прохожие с улицы смотрели на это с понятным отвращением: распоясались проклятые сионисты, — и ужас состоял в том, что я, всем сердцем сочувствуя (сопереживая) евреям, восхищаясь ими, одновременно понимал и этих прохожих, в некотором роде им тоже сопереживал. Не нужно, хотелось мне сказать евреям, такой уж открытой демонстрации; не нужно этой дерзости, с огнем ведь играете. Я знал чернь изнутри; я из нее вышел… если вышел.
В синагоге оказался какой-то человек из свободного мира, верующий еврей, пришедший молиться. Собравшись в комок, преодолевая отвращение к себе, я подошел к нему и на ломаном английском спросил, не поможет ли он мне получить вызов. Тот ответил односложным отказом. Это было как пощечина: он увидел во мне провокатора. Меня бросило в краску. Но тут же последовала еще одна пощечина. Пожилые люди окружили меня (там было очень тесно) и, дознавшись, о чем я говорил с гостем, стали меня упрекать:
— Как вам не стыдно!
Мне было стыдно. Так стыдно, как им не бывало: как бывает только тем, кто не по своей воле двурушничает, всем сердцем двурушничество ненавидя. Одна из самых страшных минут в моей жизни. Я ушел, совершенно раздавленный… Но в 1981 году, у Кановича, всё было другое. Я — уже отказник, в этих кругах принят (поначалу несколько настороженно), нашел к ним путь, я тут свой… почти свой… или хоть не совсем чужой… Что за проклятье! Чужой среди своих, чужой среди чужих; всюду чужой.
Помимо Вассермана были в отказницких кругах и другие лидеры, другие центры притяжения: Алик (Роальд) Зеличонок, Лёня Кельберт, Яша Городецкий, Эдик Эрлих, Миша Бейзер, Аба Таратута. Преобладали те, кто мечтал об Израиле; сионисты. Слово это безнадежно скомпрометировано в России — в глазах тех, кто идет на поводу, не умеет думать: в глазах громадного, подавляющего большинства. Разве сам я не чувствовал в этом слове солоноватого привкуса? Разве не преодолевал в себе предрассудка? Мечта, дивная поэтическая мечта — вот что стоит за этим словом для человека с непомраченным сознанием. Мечта не только еврейская. Сион — важнейший христианский символ, без тени негативных коннотаций. Есть христиане-сионисты, верящие, что только с возвращением всех евреев в землю обетованную на планете наступят мир и справедливость… В 1988 году, забежим вперед, случилась сцена, которую грех обойти; она тут к месту. Тёща, Александра Александровна Костина, и танина сестра Лида гостили у нас в Израиле (ворота как раз приоткрылись). Вообразите: по улице Кинг-Джордж в Иерусалиме идет демонстрация вот этих самых христиан-сионистов, многоязыкая толпа с транспарантами и песнями, движение остановлено, среди демонстрантов преобладают скандинавы; а на автобусной остановке — другие скандинавы: Таня, ее мать и сестра. Вдруг из толпы демонстрантов выбегают две радостные тетки и кидаются обнимать Таню. Они навещали нас еще в Ленинграде в годы нашего отказа. Какое впечатление это должно было произвести на честных советских граждан? Громадное. Вернувшись в Ленинград, Александра Александровна собрала нашу еврейскую родню и провозгласила:
— Уж если ехать, так только в Израиль!
Конечно, не только эта сцена на тещу повлияла; но и она в числе прочего.
Однако далеко не все евреи так думали в памятные годы отказа; иные отказники были настроены антисионистски, иные отъезжанты, баловни судьбы, получившие разрешение, — тоже. Гриша Эпельман, еврей из евреев, отвечая на мой вопрос, сказал мне на прощанье:
— Представляешь, там — все жиды! — и поехал в США.
Он оказался не прав. В Израиле я встречал потом и чувашей, и китайцев, и — соберитесь с духом — советских негров, да-да, не эфиопов, которых там полно, а наших чеcтных русских чернокожих, черных, как сапог, с толстыми губами, говоривших по-русски, как мы с вами, — и все были настроены весьма сионистски, иные и кипу носили… Гришины слова крепко засели у меня в памяти. Я возразил на них в письме, написанном из Израиля в 1980-е; не ему возразил, а другому:
|
Останешься пейсатым Под звездно-полосатым, Но можно быть любым Под бело-голубым. |
Осенью 1981 года я стал ходить на курсы иврита, но всё еще без мысли об Израиле. Учебник иврита размножался фотографическим способом (ксерокс был почти так же недоступен, как пресс Гутенберга — и опасен). Помню, я дежурил в больнице у матери на Васильевском острове — и, когда она дремала, разбирал эти удивительные, причудливые закорючки, эти тексты, написанные справа налево… Бедная мама, умиравшая долго и мучительно, не одобряла этого моего занятия. Я должен был казаться ей совсем чужим в ее последние годы.
Эдик Эрлих, геолог, высокий профессионал, прямо заявлял, что в Израиль не поедет. Другой высокий профессионал, инженер-электрик Алик Зеличонок, столь же твердо собирался в Израиль; его потом посадили — за сионизм, за мечту, которую он пронес через свою жизнь и в итоге воплотил в жизнь. Были, думаю, и такие, кто перестроился в годы отказа. Перестроился и я. Затевая отъезд, мы с Таней думали уехать так далеко от большевиков, как только возможно: в Австралию. Выбрали на карте город с красивым именем Аделаида и нацелились на него. Тоже — мечта. Человек ведь всегда мечтает; даже на краю могилы. Но сидение в отказе затягивалось, тучи сгущались, картина перестала быть ясной, изображение двоилось. Сперва мне сообщили, что Лев Утевский из Беершевы (приятель Иры Зубер) готов помочь мне с получением нового вызова лишь в том случае, если я не проеду мимо. Затем прилетел из Лондона британец Пол Коллин — с тем же условием от жившей в Израиле старухи Лии Колкер, румынки, говорившей на двенадцати языках, включая арабский и русский. Я задумался. В Израиль ехать не хотелось, но и лгать не хотелось. Что нужно уезжать, бежать опрометью, — не вызывало сомнения. Я, вздохнув, сказал себе: Израиль не гетто; если поедем, поедем в Израиль. Тане тоже туда не хотелось, но она не возразила. Однако ж все эти мысли и разговоры оставались сугубо отвлеченными и теоретическими в течение полных трех с половиной лет. Надежды почти не было.
Еще один ход мысли, сейчас почти непонятный, должен быть отмечен. В случае удачи, в случае получения разрешения на выезд — нельзя было предать остававшихся. Власть твердила, что не отпускает евреев, потому что они едут в Америку, а не в Израиль, — а я видел глаза тех, кто засиделся в отказе и для кого Израиль был всем. Особенно детей было жалко. В 1983 году я написал стихотворение, которое никогда не публиковал. Называлось оно Жизнь в отказе. Сейчас ему самое время и место.
Не публиковал я эти стихи по нескольким причинам. Во-первых, художественные достоинства их, осторожно говоря, не бесспорны. (Как и ударение в не совсем нормативном слове отказник. Мы произносили его с ударением на последнем слоге, а можно произнести и с ударением на втором.) Что это за «честный пахарь»? Пьяный колхозник, что ли? Голая схема. Физик, правда, мог быть «вдумчивым и плодовитым», а вполне честным — не мог, потому что никто не мог.
Во-вторых, потому не публиковал, что до середины 1990-х я еще верил в Россию; допускал, что дело не в России, а в ее поработителях. Потом это заблуждение рассеялось. Россия безнадежна; не советский строй оказался, по слову Аркадия Белинкова, «неисправим, неизлечим», а переродившийся россиянин. Россия народолюбцев XIX века оказалась грезой, мифом. Современную, бесстыжую — пристыдить нельзя.
В-третьих, я не хотел обижать моих православных друзей. С этим теперь всё в порядке; в новой России, уродливой до неправдоподобия, иные из них показали клыки именно как православные. Их православие изобличило себя как язычество, как идолопоклонство перед куском суши.
Ну, и не вполне я в этих стихах справедлив, нужно признать. Довольно одного Бориса Чичибабина, чтобы «смыть клеймо». Он как раз и был совестью России, даром, что украинец. Сахаров и другие тоже обойдены. Но сейчас я пишу о себе. Повторю за Руссо: «Я не обещал вам изобразить великого человека, я обещал показать себя таким, каков я есть…». Подчеркиваю в себе дурное; главное для меня в том, чтоб разглядеть себя, а эти стихи хорошо передают настроения, мною в ту пору владевшие.
Не знаю, кого осенило создать Ленинградское общество по изучению еврейской культуры (ЛОЕК). Я эту идею получил готовенькой от Эрлиха и (или) Городецкого. Ленинградский еврейский альманах (ЛЕА) тоже был затеян ими. Зря Дима Северюхин пишет в своих воспоминаниях, что я «начал издавать Ленинградский еврейский альманах». Ни то, ни другое предприятие меня по-настоящему не интересовало. Опасаюсь, что для некоторых других отказников, в том числе и для некоторых вождей, общество и альманах тоже были всего лишь новыми инструментами борьбы за выезд. Только Михаил Бейзер и Григорий Вассерман не шутя интересовались еврейской культурой, жили ею. После выезда первый стал в Израиле университетским историком еврейства, второй — раввином.
ЛОЕК возник летом 1982 года, ЛЕА — осенью того же года. Я оказался в числе членов-учредителей общества (то есть, собственно, поставил свою подпись под документом; не все на это решались). Что до альманаха, то нужен был человек с писательскими навыками, редактор. Меня просили помочь; я с готовностью согласился. На деле работа сводилась к полной переписке каждой статьи (не исключая переводных). Еще вернее будет сказать, что устную культуру приходилось переводить в письменную. Там, в полуподвальной русской литературе, откуда я пришел, было даже слишком много евреев, умевших писать; вспомним статистику антологии Острова; здесь, среди борцов и деятелей, — ни одного. Николай Алексеевич Некрасов знал эту трудность:
|
Так говорили жиды. Слог я исправил для ясности. |
Перепечатывать на машинке тоже приходилось мне — и не одну-две статьи, а целые выпуски, правда, тонкие, страниц по сто каждый. При составлении выпусков мой голос был совещательным; решали Эрлих, Городецкий, Вассерман. Материалов остро не хватало, содержательно выпуски были бедны, зато расходились так, как другим журналам ленинградского самиздата и не снилось: более чем в ста экземплярах. В сентябре 1982 года вышел ЛЕА-1 в моем исполнении (даже титульный лист я придумал). У меня там помещена статья Саул Черниховский и Владислав Ходасевич — о влиянии, которое еврейский поэт оказал на русского. Неподписанная вступительная заметка Кто мы? тоже написана мною. Самый интересный материал выпуска — статья Бейзера о евреях старого Петербурга. Бейзер, собственно говоря, путеводитель составлял и сам водил экскурсии по еврейским местам города (чему власть всячески препятствовала).
ЛЕА-2 был подготовлен Васссерманом и его кругом. Статья Вассермана Еврейский взгляд на мир ошеломила меня — нет-нет, не силой и глубиной, как его лекции, а своей стилистической беспомощностью. Умный, неотразимо обаятельный в жизни, он писал деревянным языком и явно не понимал этого.
Над третьим выпуском опять работал я. В качестве эпиграфа я поставил: Etiam in tenebris, даже во мраке. Зачем еврейской культуре латинский эпиграф?
В ЛЕА-3 я включил стихотворение ивритского поэта Ицхака Каценельсона в переводе Ходасевича и статью Немного статистики за подписью Г. Р-н (один из псевдонимов Ходасевича). Эта статья — составленный мною реферат по основательной работе Валерия Скобло, которая, насколько я вижу, и по сей день любопытна. Опираясь только на советские источники, Скобло сопоставляет роль различных советских народов в научно-культурной жизни страны. Сколько студентов, дипломированных специалистов, аспирантов, научных работников, кандидатов и докторов наук дали — в относительном исчислении — русские, армяне, евреи, татары? Показателем выбрано отношение процента (скажем) студентов-белорусов к общему проценту белорусов в населении СССР. Ясно, что если белорусы (эстонцы, киргизы) дают число студентов (кандидатов наук, и т.п.), пропорциональное своей численности в семье советских народов, то этот показатель равен единице. У русских он, действительно, близок к единице; обычно чуть выше единицы; у украинцев — чуть ниже единицы. Русские во всех группах уверенно идут на четвертом месте (иногда поднимаясь до бронзы); украинцы — на пятом. Кто на первом, и не спрашивайте; это понятно. А вот кто на втором и третьем? Грузины, потом армяне. Обычно в таком порядке. Изредка грузины уступают серебро армянам, армяне же свою бронзу — русским, но в основном порядок марафонцев неизменен. Второе наблюдение: разрыв между лидерами возрастает по мере приближения к финишу. И как возрастает? Dramatically. Берем студентов в 1962 году; евреи — 2,6; грузины — 1,5; армяне — 1,1. Теперь возьмем аспирантов в 1970: евреи — 5,6; армяне — 1,7; грузины — 1,4. Идем дальше; вот цифры по дипломированным специалистам: евреи — 8,5; грузины — 1,8; армяне 1,4. Лидер всё дальше отрывается от основной группы. Когда доходит до докторов наук, картина возникает следующая: Евреи — 22,00; грузины — 2,97; армяне — 2,45… Что тут скажешь? «Идеал их — телец золотой», как подметил тот же Некрасов, вот и лезут в науку.
Еще в ЛЕА-3 вошли мои стихи — и мой пуримшпиль под псевдонимом Михаил Идельсон. Написать пуримшпиль меня буквально заставил Леонид Кельберт. Режиссер по профессии, он завел домашний еврейский театр, который, естественно, разгоняли, но который всё-таки как-то существовал — на голом энтузиазме, без профессиональных актеров и декораций. По правде говоря, театр был жалкий. Вот для него-то мне и нужно было написать сценарий. Я сказал Кельберту, что не успеваю к Пуриму; сроки уж больно сжатые. Разговор происходил на Уткиной Даче, в моей котельной при слиянии рек Охты и Оккервиля, 29 января 1983 года. Кельберт возразил:
— Сжатые сроки — хорошие сроки.
Я пообещал постараться. Легенду я уже знал, а тональность долго не мог выбрать — пока не сообразил, что по жанру это, собственно, балаган. Тут стало легче. Получилась в итоге небольшая пьеска в семи сценах, в стихах и прозе, полная каламбуров, рискованных намеков и прямых выпадов. Древность и современность в ней совмещаются.
|
Великое братство провинций свободных Навеки сплотила великая Персь. И столько в нем счастья и воли народных, Что дыбом у перса становится шерсть. |
Это, между прочим, было прямое святотатство, глумление. Но ведь и то сказать: первая строфа советского гимна сама просится на пародию, так она анекдотична. Это и тогда было ясно. А сейчас, вглядываясь, изумляемся еще больше: в ней нет ни единого слова правды. Это ведь исхитриться надо! Михалков — гений всех времен и народов.
В самом деле: братство; нерушимый; республик; свободных; навеки; волей народной — всё перечисленное прямая ложь, которую и опровергать незачем. Но и остальное — ложь. Русь ли сплотила союз? Ничуть. Русь существовала три века, а потом расползлась по швам; союз (если признать его союзом) сплотила другая страна, две других страны: сперва Московия, затем ее преемница, Российская империя. Связь между Русью и Московией — ура-патриотическая натяжка. Московия больше обязана Орде, чем Киеву. Была ли Русь великой? Не более чем хазарский каганат; там три века, тут три века. Военные подвиги, а потом пшик. Даже каганат больше сделал: подарил Византии еще семь веков жизни; создал условия для возникновения Руси; не пустил мусульманство в Европу. Если читать историю открытыми глазами, увидим, что единственной силой, едва не сокрушившей Византию, были арабы. Прочие — почти не в счет. В Константинополе гораздо большее беспокойство вызывали персы, тюрки, болгары, даже авары, и со всеми с ними Византия преспокойно справилась, а русских едва заметила. (Попутно еще и то вскроется, что Святослав — на деле Свендислейв.) Был ли Советский Союз могучим? Афганская война — поражение почище Японской войны. Вторую мировую войну СССР никогда бы не выиграл в одиночку, хотя воевал против карликовой, сравнительно с ним, страны. Да и не разваливаются могучие державы в одночасье. Был ли Советский Союз единым? 1990 год положил это единство на весы истории. Был ли он хоть советским-то? И спрашивать смешно. Он был партийным. Советы ничего не значили. Может, хоть «да здравствует» правда? Вот разве только это. Здравия желают и смертельно больным. Злосчастный союз был болен от рождения. В сталинские времена — саркома ГУЛАГа, миллионы рабов. Чудовищная война, выигранная большой кровью, за счет того, что своих не щадили (на 6 миллионов погибших немцев — 27 миллионов погибших советских граждан). После смерти Сталина — лживая идеология, дряхлевшая не по дням, а по часам. С 1970-х — массовое бегство. Одна советская поэтесса сказала про евреев: «крысы бегут с тонущего корабля». Крысы там или нет, это второй вопрос, а что корабль тонул — всем было ясно. Верхи не могли, низы не хотели. В 1991-м колосс на глиняных ногах рухнул от дуновения ветерка. Вот вам и «Да здравствует»… Изумимся еще раз: четыре строки четырехстопного амфибрахия, размера тяжеловесного, государственного (поэты к нему редко обращались), четыре рифмованные строки, и всё — ложь. Правдой остается только восклицательный знак. Восклицать в Москве умели. Но крик — еще не слово.
Есть в пуримшпиле и глумление над гражданским гимном:
|
Широка страна моя смурная. Много в ней шалманов и аптек. Я другой такой страны не знаю, Где так редок трезвый человек. |
Молва доносила, что Губерман сел за что-то очень похожее: «В объятьях пьянства и режима лежит Россия недвижимо», а высмеял он эту задушевную песню куда лучше меня — одной фразой: «За столом никто у нас не Лифшиц». Не знаю, мог ли я сесть; в ту пору не думал об этом. Начав, увлекся и чепуху свою дописал. Есть там портрет бровастого Брежнева; есть газета Шушанская правда; действительная служба в царском гареме — не только обязанность, но и почетное право каждой гражданки Персии; свобода — осознанная необходимость отъезда; семь бед — один отъезд; весь набор моих каламбуров, с тех пор частично ставших народными. Досталось и диссиде, заговорщики появляются с плакатом: «К новым свержениям!» и с песней:
|
Тиран перед своим покоем Зарезан будет, а затем Мы наш, мы новый мир построим! Кто был ничем, тот станет всем! |
Рассеяв заговор, Мордехай ворчит: «Коза Деррида и сорок разбойников!»… Тут не возможно удержаться от примечания. Какие муки доставляло имя Мордехай человеку, проникнутому русской культурой! Ведь тут морда присутствует! Можно сколько угодно говорить себе, что это — вовсе и не еврейское даже имя, оно от вавилонского Мардука происходит, бог у них там был верховный с таким именем, а всё равно… Вспомним: целый пласт устной культуры, пресловутых анекдотов, построен на фонетическом родстве слов морда и мордва. Среди них — и такой, не иначе как евреями сочиненный: русские патриоты хотят переселить всех евреев в мордовскую автономную республику, но не решаются по чисто лингвистической трудности; не знают, как назвать эту республику: жидо-мордовская или мордо-жидовская… А еще обнаружилось в эти годы ошеломляющее женское имя Батя, означающее, в сущности, доченька, но видишь батьку Махно — и душа не принимает… Ужас! Что за язык!
Амман в пуримшпиле поет:
|
Мой помысел чист и светел: Отдай, брат, и не греши. Я с детства себе наметил Высокие грабежи. |
Мог ли я думать, что доживу до эпохи, когда этот каламбур (высокие грабежы) разъяснять будет нужно? В те давние времена пояснения он не требовал — прямо вызывал хохот. В советское время была такая формула: «высокие рубежи» — термин планового хозяйства.
Амман и перед царем красноречив:
|
Знай, отец, что иудей — Кровопийца и злодей. Он — не пахарь и не сеятель, Он — научный иудеятель! Населили города И плодятся без стыда! Все искусства, все науки Угодили в эти руки. Персу — сеять и пахать, Юду — мыслить и порхать?! Над крестьянской хатой Отпорхал пархатый! … Все они головорезы, И в штанах у них — обрезы. |
Есть и слезливая патетика, куда деваться. Ахашверош хочет наградить Эстер — тут-то царица ему и открывается:
|
Мой господин, из всех твоих даров Искала я лишь милостивых слов. Но черные теперь настали дни. Царь! Жизнь своей Эсфири сохрани! Еврейка я! Несчастный мой народ Погрома лютого сегодня ждет, Но и под сенью царского венца Его судьбу делю я до конца — И в намечаемой резне, клянусь, От общей участи не уклонюсь. |
По крайней мере один раз спектакль, хоть и с купюрами, был поставлен: 26 февраля 1983 года, у Наташи Рощиной, на проспекте Суслова (д. 17 корпус 1 кв. 117). Пришел и автор с женой и дочерью, а их не пускают: воронок перед парадной, кордон в подъезде и перед квартирой. Говорят: идите домой по добру по здорову. Мы вышли; уже к метро, было, направились, но на всякий случай обошли дом с другой стороны — и не зря: видим, люди в окно влезают, квартира-то на первом этаже была. На наших глазах влезли Маша Кельберт и ее дочка Лиза Вассерман, ровесница и приятельница нашей Лизы. Мы решили подождать; Таня бы в окно не влезла; подождали — и произошло чудо: к восьми часам кордон был снят, в квартиру мы вошли беспрепятственно.
В ЛЕА-4, вышедшем уже без меня, тоже есть мой вклад: статья О стихах Владимира Лифшица.
В 1988 году, в Иерусалиме, первые восемь выпусков ЛЕА вышли типографским способом — в томах 26 и 27 Еврейского самиздата, под моей редакцией. Пуримшпиль включен туда не в последней версии, а в той, в которой вошел в ЛЕА-3. Я хотел остаться верен исторической правде.
Помните, в записных книжках Ильфа: «Марк Аврелий… Не еврей ли?» В России еврея, главным образом, по фамилии отличали — и зря. Фамилия случается у еврея любая. Другим критерем шла внешность, но и она подводила. Кто мог заподозрить врага в Наташе Рощиной? Только отдел кадров. А Борис Иванович Девятов, спланировавший в сионистское движение из комсомольского? Была еще Тамара К-ва, но та гиюр прошла, приняла иудаизм по полной форме, без изъятья. Наташа М-ва — тоже. Евреем ведь можно стать — как и христианином. Прозелитизм существовал всегда и везде.
Вообще у евреев фамилии поздно появились, в XIX веке; до этого они довольствовались отчествами. Многие сразу русские фамилии получили. Одни, нужно полагать, по форме носа: Орловы, Соколовы, хотя и Щегловых с Воробьевыми немало развелось, и уж тут непонятно, откуда они взялись. Другие фамилии возникли от естественного ужаса человека перед евреем: Ойстрах (хотя вернее будет, что и тут фамилия птичья: от ostrich, страус; у евреев нередко случаются длинные ноги; этим недостатком страдал, между прочим, князь Петр Андреевич Вяземский, потомок Шафирова, поэт). Были откровенно переводные фамилия: Медведевы, от Berlin (Bern). Были — по храму, где нехристь святое крещение приняла: Воскресенский. Были, можно допустить, по ошибке выданные; говорит еврей чиновнику, что он иностранец, а тот не понимает и пишет вместо фамилии: Ауслендер. Были отыменные: Соркины (и, с поправкой, Сорокины), Нахимовы. Большинство же — топонимические: Сандомирский, Семеновкер, Колкер. Знал я евреев с фамилиями Пушкин и Некрасов. Не иначе, как заплатили их предки за такие фамилии. «Денежки есть — нет беды. Денежки есть — нет опасности» (Н.А. Некрасов). Или — так обстоятельства стеклись. Бывает. У Лермонтова — Вернер русский, а Иванов — немец. Лермонтов, когда писал это, помнил о своих предках; Шотландию в стихах родиной называет, но не всерьез, это у него романтическая мечта; русским себя считал — всерьез.
Иван Федорович Мартынов был чисто русский, то есть — без еврейской примеси среди обозримых предков, в то время как другие этнические вкрапления, в частности, болгарские корни, прослеживались. Он — единственная известная мне прямая жертва сионизма.
Мартынов работал в БАНе, в Библиотеке Академии наук на стрелке Васильевского острова. Занимался архивами русской литературы, счастливчик. Об этом занятии я в те годы мечтал как о несбыточном счастье, точнее, мечтать не мог — и Мартынову завидовал. Мартынов не менее двухсот статей опубликовал, пока не свихнулся на еврействе; и то сказать, архивисту легко по этой части: не пожалел труда, отрыл — описывай и публикуй. Был он, в сущности, человек незаурядный, нравом авантюрист, браконьер, но со странностью: ни об одном предмете не мог говорить прямо. Ходил вокруг да около, петлял, шнырял и ширял, не жалел слов, словоохотлив же был неправдоподобно; подводил собеседника к предмету разговора: проглотит или нет? — даже когда дело выеденного яйца не стоило. Потом я слышал, что это форма психического расстройства.
— Варвара у меня пятенькая, — говорил он про свою молодую жену, которая оказалась не последней.
И добавлял:
— Уважаю институт законного брака… А ведь учила меня мать: не пускай возлюбленных на кухню, возлюбленная сразу женой станет.
Действительно, поесть Мартынов любил, был не по возрасту толст, но очень подвижен. Пикническая конституция. Жена его, Варя Соловьева, называла себя еврейкой, открыто носила маген-давид, что в ту пору было большой дерзостью.
И вот они решили уехать, но не как-нибудь, а цугом. Мартынов начал бороться с советским антисемитизмом советскими методами. Из журналистов-антисемитов в ту пору выделялся некто Корнеев. Мартынов написал возражение на серию его статей и книгу; целый трактат, основательный, с цитатами из Корнеева, конституции и уголовного кодекса. Трактат не напечатали в одном советском месте, потом в другом, в третьем. Это дало повод обвинить в расизме (в пособничестве нагнетанию национальной розни) уже редакции журналов. Последовали жалобы в советские суды и партийные инстанции. Всё честь честью. Большой бизнес. Работник Мартынов был хоть куда, писал быстро.
Ни одной его статьи против корнеевых я не смог дочитать до конца — именно из-за их советскости. Мартынов писал расхожим советским языком, ритмически недостоверным, полным той же лукавой лжи, только со знаком минус. Применять советские законы против советского беззакония? Увольте. Всё советское было одной большой ложью.
Мартынов не умел правильно пользоваться кавычками, злоупотреблял ими сверх всякой меры — в точности как советские авторы. Обилие кавычек вообще всегда унижает внимательного читателя. В советское время додумались заключать в кавычки слова для придания им иронического оттенка. Чистый случай: люди слышали звон, да не знали, где он. Триумфальное шествие кавычек по сей день продолжается; интернет подхватил знамя, выпавшее из рук авторов передовиц всевозможных Правд. Берут, например, в кавычки слово Газпром. Отчего бы это? Слово вполне оригинальное; имя собственное. А вот они слышали, что названия нужно в кавычки заключать. Прекрасно! Но будьте последовательны: Москва, Тверская улица — тоже названия: в кавычки их. Библия — название? И ее — в кавычки; да так в советское время и поступали. Для людей, равнодушных к языку, тут и вопроса нет. Скажешь им — они в пень становятся. Не понимают. Мартынов, литературовед, автор, — тоже не понимал. Фактура в его статьях была такова, что я даже затевать спора не стал. Делает человек неплохое дело; делает, как умеет; старается, — ну и пусть его.
Внезапный успех моего Ходасевича (сперва Айдесской прохлады, а затем машинописного двухтомника) привел Мартынова к мысли, что со мною нужно дружить. Допускаю, что он и человеческую симпатию ко мне мог испытывать, державшуюся на некотором недоумении (уж слишком я был непохож на Охапкина или Кривулина). Эта симпатия, понятно, не осталась без отклика. Как не откликнуться на дружбу? В ту пору «я отклика искал в людских сердцах, всех чувств благих я подавал им голос». Мартынова тоже не оттолкнул, не в последнюю очередь из-за похвал в мой адрес. Лесть — средство безотказное. В стихах Мартынов не смыслил до смешного, талант поэта мерил поведенческим аршином: буйствует, ведет себя со странностями, шалит — значит талантлив. Я не подпадал под критерий, и Мартынов хвалил мои стихи осторожно, с оглядкой на мнения других. Но архивист он был настоящий, работу с источникам знал и уважал; понял, что статья моя сбита крепко; хвалил (и критиковал) ее профессионально. Мне же он был интересен и как человек, и как специалист. Авантюризм в советское время не мог не нравиться, даже когда он с шарлатанством граничил. Мартынов знал кучу имен, статей и книг, о которых я, новичок, только слышал, а иногда и не слышал; он мог дать совет.
Параллельно с борьбой против антисемитизма (и, можно допустить, под впечатлением от конференции по Ходасевичу) он завел у себя в коммуналке (набережная Фонтанки 96 кв. 9) Гумилевские чтения: регулярные собрания, где появлялись не одни кустари вроде меня, а настоящие литературоведы, взять хоть Таню Никольскую или Арлена Блюма. Поэты Охапкин и Стратановский тоже там бывали. Мартынов председательствовал. Его неспособность говорить перед аудиторий была феноменальна — притом, что и все-то мы не умели говорить. В сущности, он не мог закончить ни одной фразы. Дополнял несказанное энергичной жестикуляцией и беспрерывными шутками, нередко смешными (чувство юмора имел превосходное); своим шуткам сам же первый и смеялся. Брызгал слюной и в переносном, и в буквальном смысле (вообще отличался крайней неопрятностью — даже в сравнении со мною).
Не только неумение говорить, но и неумение договориться вскрылось в этих собраниях. Дело доходило до крикливых ссор. После одной из них Мартынов сказал мне:
— Мы с вами присутствовали на заседании парламента свободной России.
Сейчас это следовало бы признать пророчеством; кто мог тогда вообразить, что мы увидим этот парламент, доживем до сегодняшних думаков?
Понятно, что и писания Мартынова, и Гумилевские чтения были вызовом режиму. На это он и рассчитывал. Не знаю, за что в итоге Мартынов получил свои полтора года условных, которые отбыл, сколачивая ящики на Красном треугольнике. То есть не знаю, как власть сформулировала обвинение. Неясен предлог, а причина сомнений не вызывала.
У Мартынова была масса знакомых, интересных и полезных по части истории литературы. Он совершенно справедливо полагал, что в частных архивах еще можно отыскать настоящие сокровища, да и с казенными архивами нужно связь держать. Однажды он привел меня на Старо-Невский (дом 136, кв. 13) к Людмиле Алексеевне Мандрыкиной, работавшей в Публичке, в рукописном фонде. Она занималась архивом Ахматовой с самого дня смерти поэта. Мандрыкина уже была в числе читателей и почитателей Айдесской прохлады, ко мне обращалась с почтительностью, меня стеснявшей, а сама оказалось невероятно проста и радушна. Увидев ее, я вспомнил, как лет за двенадцать до этого визита и знакомства с нею, еще совсем молодым человеком, как-то слушал в Публичке ее доклад по Ахматовой — и вынес из этого доклада чувство, близкое к оторопи. У меня получалось, что «они» сначала загоняют поэта в угол, мучают, убивают, а потом — каждую его строку, значительную и пустяковую, вывешивают в иконостас в золотом окладе. Очень юношеское чувство, что и говорить. Мальчишка не понимал, что Мандрыкина — не из них. Мальчишке казалось: работает в Публичке, значит — с ними… Мандрыкина уже потому была не из них и не с ними, что ее мужа, писателя Георгия Осиповича Куклина, большевики прикончили в 1938 году, но я об этом узнал только при знакомстве с нею.
Еще одну вещь я вынес из доклада Мандрыкиной, слышанного в юности: что Ахматова под конец жизни составила рукописный сборник под названием В ста зеркалах — из стихов, посвященных ей другими поэтами. Как я изумился! Не мелкое ли это честолюбие? Что она — женщина, и «ей нравятся безделки», мне вовсе в голову не шло. И другого я не понимал: десятилетия гонений, жизнь, прожитая на полузаконных основаниях, оправдывали такие вещи. Другая бы на ее месте вообще разуверилась в том, что она — реальность. Ведь всё же было отнято!.. Позже я узнал, что один поэт из числа тех, кто знал Ахматову лично, похожим образом изумился, когда она сказала ему:
— Посмотрите, С., как меня издали в Италии!
И был совершенно так же неправ, как я.
В тот день, и едва ли не ради нас с Мартыновым, в гостях у Мандрыкиной была, можно сказать, сама история: Екатерина Константиновна Лившиц, вдова Бенедикта Лившица. В это едва верилось: не дряхлая старуха, а пожилая женщина — и прямо оттуда, из серебряного века… Что привело Мартынова на Старо-Невский? Идеи и затеи переполняли его. В этот период он, среди прочего, носился со старой фотографической карточкой, как ему казалось — неизвестным портретом Мандельштама. Потом выяснилось, что это известный портрет Кафки, — и чуть ли не у Мандрыкиной выяснилось.
Выйдя с вилами на паровоз, Мартынов оказался без работы; сам ушел или был уволен. Работала ли где-нибудь Варя, не помню. Им пришла в голову оригинальная идея раздобыть деньги. Под Калининградом, сообщил мне Мартынов, есть предприятие по переработке янтаря. Отбросы отводятся в море дырявой трубой; весь пляж вокруг усеян кусками янтаря с ладонь величиной. Имеется охрана, но ее можно провести. Поедем, говорит, наберем янтаря — и продадим. Что ж, рюкзак у меня был. Снарядились и 12 сентября 1982 года поехали: он, Варя и я. Ехали, естественно, на попутках, ради экономии и ради приключений; только изредка — на поездах. Дорога — через Остров, Резекне, Каунас, Клайпеду, Куршскую косу — оказалась неблизкой и тяжелой, почище езды на товарняках, знакомой мне с юности. Сентябрь выдался прохладный, хоть и солнечный.
|
Всё зависит от освещенья: Стоит солнышку проглянуть — И от всех забот отпущенье Наш с тобой осеняет путь. |
Ночевали на природе, заворачивались в одеяла, надевали толстые шерстяные носки. Палатка имелась, но не всюду ее можно было поставить. Одну ночь провели в телеге, в открытом поле, под звездами величиной с грушу; замерзли страшно. Добрались с грехом пополам до знаменитого курорта Неринги на Куршской косе. Тут Мартынов меня разыграл:
— Видите, — говорит он (мы с ним в ту поры были на вы), — вон там на горизонте землю? Это Швеция.
Мысль у меня шла в одном направлении; на это он и рассчитывал; до свободы — рукой подать; нужна только резиновая лодка, а то и вплавь можно. Путь уже указан: «На турецкий всходит берег Саханевич молодой…», — пел Хвостенко об одном таком мореплавателе. Молодец Мартынов! Среди прочего, и подобные розыгрыши мне в нем нравились. Через долгую минуту я сообразил, что Швеция должна быть справа от нас, а не слева, да и видна-то вряд ли может быть.
По Куршской косе мы доехали до Калининградской области, а там и до поселка Янтарного с янтарным заводом. Темнело. На ночлег устроились в детской песочнице и опять смертельно озябли за ночь. Утром, едва мы успели продрать глаза и напялить рюкзаки, как нас, голодных и холодных, арестовали и отвели в участок. Впервые в жизни я оказался за решеткой, притом буквально: была в участке лавка для преступников, забранная толстыми прутьями. Сидючи там, я вспоминал детские (но всё же не очень детские, с намеком на эмиграцию) стихи Олега Григорьева:
|
— Ну как тебе на ветке? – Спросила птица в клетке. — Да так же, как и в клетке. Вот только прутья редки. |
Отпустили нас довольно быстро, поскольку с поличным-то мы пойманы не были, и паспорта оказались в порядке. Арестовали же не только из-за янтаря; на уме у подозрительных путешественников могло быть кое-что похлеще; граница ведь близко — отсюда и прутья. Велели нам уезжать, но мы, сделав ложную петлю, пошли-таки на пляж, где — молва не обманула — янтаря было много, набрали его порядочно, после чего благополучно вернулись домой. Точнее, не совсем благополучно: спасительные паспорта, все три в одной авоське, я умудрился потерять; мой туристический топорик, служивший мне с 1969 года, с поездки на товарняках на юг, тоже пропал.
Возвращались через Зеленоградск, Калининград и Ригу. Название это — Зеленоградск — показалось мне идиотским. В самом деле, к чему здесь этот суффикс ск? Его разве что близостью Швеции да Польши можно оправдать. За этот суффикс три народа спорят, и мне кажется, что родина его — скорее Швеция, чем Польша или Русь.
В Риге Мартынов прямиком повел нас на улицу Калею 54-4, к Роману Тименчику, восходившей (и вскоре взошедшей) звезде литературоведения, будущему профессору Еврейского университета в Иерусалиме и первому слависту мира (или, может, второму, я в звездочках не понимаю). Имени Тименчика я, естественно, никогда не слышал. Мартынов представил меня и рассказал о моем подвиге.
— Ходасевичем? — изумился Тименчик. — Зачем же это? Ведь им занимается Малмстед в Америке, пятитомник готовит.
Мне (говоря словами Ходасевича) трудно было не засмеяться в ответ. Я впервые в жизни сталкивался со служилым литературоведением в его открытом цинизме и прагматизме. Для меня работа над Ходасевичем была нравственной потребностью, делом совести, я мою выстраданную эстетику отстаивал и утверждал, — а этот человек думал (как и Мартынов, наверное, думал; но он не в счет), что я кормушку ищу и вот, бедняга, промахнулся: кормушка-то занята. Собираюсь, значит, уехать, эмигрировать — с тем, чтобы на жизнь себе зарабатывать любимым поэтом. Приеду, значит, на дикий Запад, в Сиэтл или Майями (по моей тогдашней присказке: «Лучше жить в Майями, чем в помойной яме»), и кафедру себе под Ходасевича потребую… И он был не одинок. Позже, в 1984-м, в Иерусалиме, люди изумлялись моей непрактичности, не понимали, как это я ничего не требую на кафедре славистики, уговаривали записаться туда хоть заочным аспирантом, поскольку мой двухтомник — готовая диссертация. Растерянность в первые месяцы эмиграции я испытывал не шуточную; уговорам внял; записался. Сходил на одну лекцию Ильи Захаровича Сермана; заскучал и вернулся к уравнениям. Что мне PhD по литературе? Преподавателем я себя и в кошмарном сне не видел, а PhD по физике у меня и так есть… В середине 1990-х тот же Тименчик сообщил мне при случайной встрече, что я всё еще числюсь аспирантом у них на кафедре. Должно быть, счастливчик, и умру в этой почетной должности.
Кажется, Мартыновы собранный янтарь продали, и какие-то гроши нам с Таней перепали, но вряд ли они покрыли потравы: дорогу и расходы на восстановление паспорта. О топорике я тоже потом вздыхал долгие годы.
…Мартынов оказался жертвой сионизма вот в каком смысле: подобно советской власти, он верил во всемогущество евреев и отождествлял их с сионистами. Он думал, что за его борьбу против антисемитов ему дадут всё. Отработав по приговору полтора года на Красном треугольнике, он-таки эмигрировал в 1987 году — и поехал в Израиль, где получил немало: статус репатрианта (притом, что он не еврей, а еврейки Вари при нем не оказалось) и должность в иерусалимском университете, временную, но пристойную, эквивалентную доцентской. Разочарован он был до последней крайности. Тут он и стал жертвой.
При работе над Ходасевичем мне многие помогали, и я многим обязан. В моих записных книжках то и дело попадается имя Ильи Олеговича Фонякова, официального (в терминологии Шнейдермана) поэта, члена союза писателей. Не помню, что он сделал, но наверняка сделал что-то; какую-нибудь книгу дал или ссылку. Будучи официальным, он, тем не менее, ценил стихи Зои Эзрохи; уже одно это служило в моих глазах визитной карточкой; знакомы мы толком не были.
Особое место среди тех, кто помогал, занимает Николай Всеволодович Котрелёв. Я вообще работал в ту пору очень быстро; потом люди верить не хотели, что я подготовил мой комментированный двухтомник Ходасевича меньше чем за два года; когда я встретился с Котрелёвым, работа уже шла к концу, — но всё же без его помощи и времени у меня ушло бы на несколько месяцев больше, и полнота была бы другой, — при всём моем трудолюбии и прилежании. Некоторых вещей я вовсе мог бы не раздобыть — просто потому, что не мог надолго приехать в Москву, сидеть в московских библиотеках и архивах. Спасибо Мартынову: он рекомендовал меня Котрелёву, у которого (Арбат 51-90) я и оказался 23 декабря 1981 года. Не помню, где я тогда ночевал: у Котрелёва или у родственников. Котрелёв открыл передо мною свои архивы, собранные за многие годы. Некоторые их части копировать не разрешалось; например, воспоминания Анны Чулковой, второй жены Ходасевича. Другое — пожалуйста. О моей работе, о том, что я готовлю парижский двухтомник, он знал — и делился щедро. Кажется, понимал, что Ходасевич для меня — знамя, а не корыто. Сам он, человек религиозный, увлекся другими: сколько помню, Вячеславом Ивановым и Владимиром Соловьевым. Мне его знамя казалось смешным. Иванов едва заслуживал в моих глазах имя поэта. Критических статей Соловьева (следовало бы сказать: философских, ибо они не вмещаются в рамки литературы) я к тому времени не прочел; потом они (и только они) отчасти заслонили для меня литературные статьи Ходасевича — глубиной и мощью, изумительным слогом, масштабом постановки вопроса; тем, что и в неправоте своей он умудряется оставаться правым. Но это потом случилось, да и в поэты он не попадал. А в 1980-е именно критическая проза Ходасевича и его воспоминания задавали в моем представлении эталон.
Котрелёв отвел мне стол в своей громадной квартире, и за этим столом я сидел три дня по 10-12 часов, переписывая мелким почерком документ за документом, едва находя время для еды и сна. Переписывал нужное и ненужное; чувствовал, что такая возможность открывается раз в жизни. Находил у него и то, что уже знал, но гораздо больше того, чего не знал: взять хоть аттестат зрелости Ходасевича (где по всем предметам, включая «русский язык с церковнославянским и словесность», четверки, а за немецкий язык — даже тройка). Переписывал и вещи, прямо не требовавшиеся: справки в московскую казенную палату и московскую городскую управу, удостоверения, метрические свидетельства; всё это помогало почувствовать атмосферу эпохи. В моей тетрадке этими выписками заняты страницы с 243-й по 300-ю. Потом Котрелёв сказал обо мне Мартынову:
— Таких я еще не видывал.
По русскому обыкновению, меня у Котрелёвых сажали за стол и за разговоры. Эпатажа ради я назвался иудеем, а про Таню сказал, что она православная. Тут была доля правды. После операции Таня крестилась, я же устоял (хоть соблазн был нешуточный), а спустя два года увлекся иудаизмом, но ни она не посещала церквей, ни я — синагог, даже в Израиле ни разу не был я в синагоге; с годами неприятие готовеньких конфессий у нас только усиливалось. Жена Котрелёва, тоже Таня, крещеная еврейка, женщина умная и обаятельная, сказала сочувственно:
— Это, должно быть, тяжело в семье: держаться разных религий.
Чувствовалось, что семья у них настоящая.
Котрелёв и на мои стихи взгляд бросил. О стихотворении В саду, на узком островке (1974) сказал:
— Эти стихи я включил бы в антологию, — однако ж не уточнил, в какую; а я не спросил. В Острова это стихотворение попало.
За границей, в эмиграции, мой долг Котрелёву удвоился; точнее, превратился в вину. На дворе еще стояла советская власть. Не публиковать то, что мне известно по Ходасевичу, казалось почти преступлением. В служилое литературоведение я поступать не стал — и опубликовал письма Ходасевича к Тинякову, взятые в основном из архива Котрелёва, но с дополнениями из моих находок, не у славистов, а в парижском Континенте (номер 50, 1987). В предисловии к публикации я писал: большинство материала — из архива Н.В.К. Редакция эту фразу сняла. Опасались, вероятно, что инициалы легко расшифровать, и Котрелёв может пострадать. Что меня это в неловкое положение ставит, они не подумали. Может, им и следовало убрать инициалы, заменить их, скажем, одной буквой или хоть латинской N, но вовсе снимать мою отсылку едва ли стоило. Кажется, в другой статье, Университетские годы Ходасевича (Русская мысль 3624, 1986) редакция меня пощадила и мое благодарственное упоминание сохранила.
— Получил я за книгу порядочные деньги, — сказал мне при нашем знакомстве Борис Иванович Иванов, часовщик, — и ушел с работы. Целый год жил, не работая. И что вы думаете, Юра, я много написал за этот год?
Разговор происходил в 1980 году, в кочегарке на улице Плеханова. Должно быть, я спросил Иванова, отчего он, печатающийся автор с перспективой вступления в союз писателей, не остался на вольных хлебах, а работает оператором газовой котельной. Мне в ту пору чудилось, что освободиться от сизифовой советской службы — уже величайшее счастье. А там — как же не писать, когда ты свободен? Ответил мне Иванов правильно, спасибо ему.
Лишь к Иванову, сколько помню, принято было в нашем котельном писательском полуподполье обращаться по имени-отчеству. Всем котельным авторам, находившимся в моем поле зрения, было в ту пору меньше сорока; Иванову — 52. Обращения, принятого теперь, утвердившегося в 1990-е годы, — на вы, с полным именем, но без отчества, — не существовало. Я не о кочегарках только говорю: его не было в культуре вообще. Или по имени-отчеству — или с уменьшительным именем (обычно двусложным: Боря, Юра), хотя бы и на вы. По сей день, слыша по отношению к себе: Юрий, я инстинктивно готовлюсь отвечать не по-русски.
Иванов был прав: нужно работать. Для своего же блага, для душевного равновесия (без которого нет мечты — а значит, и мечты творческой) нужно жертвовать, платить дань. Кому? Странно вымолвить: обществу; языческому божеству большого коллектива. Чем платить? Ответ опять выходит словно бы советский: трудом; делом, не вполне отвечающим твоим сокровеннейшим помыслам. Говорю это не словами Иванова, их я не запомнил, а моими теперешними.
Так и вышло в моей жизни. Кочегарки способствовали сочинительству. Для меня они начались в январе 1980-го, а в 1981 году Саша Кобак, державший руку на пульсе самиздата и второй культуры, сказал мне:
— За последний год ты сделал больше, чем кто-либо в нашем кругу.
Но зачем сравнивать с другими? Я с собою сравню: за тот год я сделал больше, чем за предыдущие десять. Счастливая пора! Написанное в ту пору дорого мне по сей день — и всё еще находит читателя.
Однако ж мне — кто бы мог вообразить такое! — предстоял еще один урок, еще одно подтверждение нехитрой истины, преподанной Ивановым. Не в 34 года, а в 58 лет, в Британии, из неудачливого журналиста я перешел в фабричные рабочие и почти три года стоял у станка по девять часов в день. Казалось бы, уж тут-то — конец сочинительству. Конвейер; ни секунды без дела; карточку нужно отбивать. А вышло иначе; силы словно удесятерились — и такого душевного подъема в моей жизни вообще не случалось, даже если сравнивать с кочегарками. Я успевал невероятно много. Тринадцать лет, отданные перед этим русской службе Би-Би-Си (о которой доброго слова не скажу), принесли мне несопоставимо меньше (и текстов, и наслаждения — хотя, кажется, я тут повторяюсь, это едва ли не одно и то же) и рядом с фабричными тремя кажутся вообще выброшенными из жизни. Никогда я не был свободнее. Гречанка с крылышками посещала меня у станка ежедневно. Горизонты раздвинулись. Минута хорошо темперированной жизни оказалось долгой, счастливой.
У кочегарки в этом смысле был недостаток. Конечно, во-первых и в-главных, она была студией. Не я один приходил на смену с пишущей машинкой, книгами и тетрадками в рюкзаке. Сама по себе отопительная работа была не бей лежачего. Полагалось только за приборами следить. Пришел, принял смену — и ты на сутки в полном, в почти полном уединении. Сочиняй, читай, мечтай, а то и отдохни, вздремни (понятно, это запрещалось; но лежанки были всюду). Вот в этом и состоял подвох. Кочегарка располагала к расслабленности, к лени. Случалось, после бессонной ночи дома, я, придя на смену, сразу ложился, а рюкзак стоял не развязанным. Оттого-то и времени, живого, настоящего времени, оказывалось в жизни меньше, чем должно было и могло быть, — но всё-таки несопоставимо больше, чем в затхлых советских институтах, где приходилось тратить лучшее время на показуху и чепуху.
Преобладающей фигурой в котельных был писатель; бумага и авторучка — вот всё, что ему требовалось. Для художника — кочегарка была скорее клубом, чем студией. Из художников на 1-м Октябрьском участке Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 смутно помню Митю Шагина — с картинами, приводившими на память Куинджи. От Шагина пошли потом митьки, но смысл этого культурного протуберанца от меня ускользает; я услышал о нем уже в эмиграции — и много изумился резвости котельных юношей. Я был старше. Для меня давно уже, говоря словами Пушкина, «прошел веселый жизни праздник».
Были и другие: дилетанты-бонвиваны с рассеянными интересами, не желавшие вписываться в жесткие и пошлые рамки советской жизни. Был Костя Бобышев, брат уже эмигрировавшего к тому времени поэта Дмитрия Бобышева. Костя рисовал (один из его натюрмортов до сих пор со мною), писал стихи (сохранилась рукопись посвященного мне стихотворения, в которой я не могу разобрать некоторых слов), но вообще тяготел к мистике, например, производил какие-то загадочные операции над числом пи. Был Толя Заверняев, изучавший санскрит и, как почти все, что-то писавший. Много позже, в 1990-е, мне передали на русской службе Би-Би-Си его письмо — с просьбой переслать другое, вложенное письмо… принцу Уэльскому. Sancta simplicitas! Он думал, что к представителю британского королевского дома можно вот так, с улицы, обратиться и получить ответ… Были иногородние: Нина Строителева, выпускница юридического факультета из Новосибирска; Оля Фалина из Казани, начинавшая художница, потом ставшая археологом. Естественным фоном этой культурной Голконде служила безликая толпа нормальных кочегаров: пьянчужка Макарыч «с Адмиралтейской 10», бабка Пелагея «с улицы Декабристов»; какая-то молодуха Галя Грузинская «с белыми от распутства глазами».
Особняком стоял один кочегар: Александр Александрович Калиняк, астроном. Был это маленький старик, выгнанный из Пулковской обсерватории за то, что совершил очередное открытие (которое — «нет человека, нет проблемы» — можно было присвоить). Его вклад в астрономию признан во всем мире: он догадался сфотографировать ядро нашей галактики в инфракрасном диапазоне. Фактически, он открыл это ядро. У других галактик ядра просматривались, а у нашей, родной и млечной, — нет. Калиняк увидел его первым из людей.
На два кирпича ставился чайник или кастрюля, снизу клался запальник (кусок трубы с краном, на шланге от главного газопровода). Прежде, чем поставить чай, Александр Александрович бросал в пламя запальника щепотку поваренной соли, приговаривая:
— Видите спектр натрия? Люблю такую физику.
Я не видел спектра натрия. Физике меня учили плохо, способностей к ней я совсем не обнаружил. Моя работа над Ходасевичем, распахнувшая горизонты, еще не началась; еврейские штудии — тоже; я был занят стихами и безнадежным, страстным богоискательством. Тут Калиняк мне не помог. Он верил, но Бога получил естественным путем — галактическим, с молоком матери. Моя невнятная религиозность была смятением и отчаяньем, шла не от родителей, а от моего собственного неблагополучия, внутреннего и внешнего. Как открытие я переживал эту старую (еврейскую) истину: семья выше храма; особенно — пока дети маленькие. В настоящей семье Бог — рядом, даже если ты полный атеист.
Я рассказал Калиняку, каким унижениям и издевательствам подвергали Таню в больнице 25-го Октября. Его история оказалась и вовсе трагической: его жену попросту убили; врач скорой помощи сделал ей неправильный укол, от которого она умерла на месте. «Так и пропала моя душенька…», вздохнул он. Я увидел перед собою одинокого человека без будущего, на краю могилы, у которого отняты любимое дело и лучший друг. Потрясенный, я пробормотал какую-то бестактность: мол, не всё еще для вас потеряно. Он понял меня неправильно и ответил:
— Для меня другие женщины — грязное белье.
Сколько раз я потом повторял эту фразу, про себя и вслух!
Другой урок тоже навсегда запал мне в душу. Узнав, что я добиваюсь разрешения на выезд, Калиняк спросил полуутвердительно:
— Вы ведь, конечно, в Израиль поедете?
Я обиделся — и пережил сильнейший приступ ностальгии. Мне почудилось, что меня запихивают в чулан; что родная культура отторгает меня по расовому признаку. Об Израиле в 1980-м я еще не помышлял. Прошли годы, прежде чем я понял: в моей обиде было больше расизма, чем в словах моего собеседника. Он-то знал, что Израиль, при всех его особенностях, во-первых и в главных — свободная демократическая страна, где можно быть кем угодно.
Ностальгия потом еще несколько раз хватала меня за горло — в России, до эмиграции. Когда русская земля оказалась за бугром, я об этих приступах вспоминал с удивлением.
Настань в 1981-м или хоть в 1984 году свобода печати, Айдесская прохлада в одночасье сделала бы меня богатым и знаменитым. Еще и в 1990 году, при крушении большевизма, было бы не поздно напечатать ее отдельной книжкой, но тут я своей выгоды не понял, издать ее не догадался. Зато в 1981-84 годах видел не без некоторого изумления, что статья шла как горячие пирожки. Спрос на нее обнаружился не в одном только полуподполье, среди кочегаров и прочих эскапистов, но и среди вполне респектабельных гуманитариев, среди тех, кто, ненавидя или презирая советскую власть, служил, однако ж, в советских учреждениях и занимал должности. Говорю об этих людях без пренебрежения. Я в ту пору сам был бы рад оказаться в их числе, да судьба повернула иначе. Иным я прямо завидовал. Дмитрий Алексеевич Мачинский, например, был серьезный археолог (эта профессия осталась неосуществленной мечтой всей моей жизни), а вместе с тем и литературовед-любитель. Правда, занимался он Цветаевой, прямой эстетической врагиней, против которой в ту пору были направлены все мои чувства, вплоть до презрения (вообще специально зарезервированного для Маяковского). Цветаева именно казалась мне антиподом Ходасевича, и если в Ходасевиче мне нравилось всё без изъятья, то в ней — почти всё, кроме ее бедности и неудачливости (и уж точно почти всё в ее писаниях) было мне противно. На первом месте, конечно, стояло ее обращение с рифмой; «дедов-редок» — это, твердил я, была рифма для черни, для быдла, для эстрады. Простить такое нельзя. На втором месте шло ее неумение расставить знаки препинания. Сегодняшнее засилье тире в русском языке (сплошь и рядом идущего вместо двоеточия, которым пользоваться разучились) отчасти — вина Цветаевой. Другого знака она словно бы и не ведала. На третьем месте (да-да, на третьем) шла ее излишняя восторженность в стихах и в жизни, с неумеренными очарованиями и быстрыми разочарованиями. Всё течет, но разве душа не просит некоторого постоянства? Что это за чехарда, за промискуитет? Сперва молиться на Ахматову, а потом плюнуть ей вслед. А молитвы Блоку? Эти взлеты и падения, эта неразборчивость — всё это тоже было дешевкой в моих глазах, потворством эгоизму и одновременно пошлой игрой на потребу черни. При этом в таланте я Цветаевой не отказывал (а Маяковскому отказывал напрочь), только талант ее казался мне загубленным. Я любил ее гимназические стихи, кое-что из чешского цикла и парижское Читатели газет… Понятно, что в его увлечении Цветаевой я совсем Мачинскому не завидовал и не сочувствовал, почти жалел его, как христианин жалеет нераскаявшегося грешника. Но человек он был умнейший и обаятельнейший, а сверх того — потрясающий лектор. Я как-то слушал его доклад о Цветаевой в музее Достоевского; слушая, ловил факты и почти ни с чем не соглашался из доводов, а докладчиком (как и все вокруг) восхищался. Мачинский умел владеть залом; качество редкое и драгоценное. Сорвав заслуженные аплодисменты, он, помнится, сказал:
— Я думаю, Марина довольна.
Даже это я проглотил — так велико было мое чувство благодарности к нему.
Мертвым опальным поэтам служили в ту пору с той же горячностью и самоотвержением, с той же одержимостью, с какой Державин служил живым царям. Это и свело меня на долгую минуту с Мачинским. Не будь Айдесской прохлады, ни при каких обстоятельствах не выделил бы он меня из густой толпы тогдашних стихотворцев, а тут, после выхода парижского двухтомника, отнесся ко мне как к равному — и даже словно бы как победителю; сетовал, что сам-то он ничего такого не написал. Из толпы же стихотворцев Мачинский выделял Елену Пудовкину, державшуюся совсем не цветаевской эстетики. Сперва я недоумевал на этот счет, а потом понял, что и в Цветаевой не стихи его в первую очередь привлекали, а человеческий облик поэта.
Другой цветаевоведкой, с которой меня свела судьба, была Ирма Кудрова. Как и Мачинский, она занималась Цветаевой многие годы, но, в отличие от него, писала, и с наступлением свобод получила свои дивиденды; прямо сказала мне (в Лондоне):
— Я на Марине Иванне поездила, — то есть на конференции и всякие цветаевские слеты в других странах поездила. В своих книгах о Цветаевой она именует поэта по имени и отчеству, как добрую знакомую; и себя не забывает: «Я впервые увидела Елабугу спустя более чем полвека после той трагической осени… Я приехала как раз в августе — только что отошел "яблочный Спас"…». У меня от таких вещей руки опускались. Разве этот жанр позволяет хоть слово о себе молвить?
В начале 1980-х в Ленинграде любили москвича Григория Померанца, историка культуры, эссеиста и моралиста, тоже несколько злоупотреблявшего местоимением первого лица единственного числа. Он, мне чудилось, входил в общий круг с Кудровой и Мачинским, обнимавший и других незаурядных людей, не ушедших в подполье. Померанц бывал в городе наездами, выступал в зале музея Достоевского и на частных квартирах. После первого для меня его выступления в музее я, в толпе прочих, каким-то образом очутился на сцене, вероятно, с вопросом. Все вокруг сияли радостью приобщения к высокому; я тоже. Дожидаясь своей очереди, я говорил о чем-то с Борей Лихтенфельдом, стихотворцем, из которого всегда твердо помнил одну строку: «И улица присела на рессорах». Поэтесса Елена Игнатова находилась в зале. К ней, как она потом рассказала, обратилась какая-то знакомая и, указав на нас с Борей, спросила:
— Неужели и вот эти молодые люди с прекрасными лицами — почвенники?
На что Игнатова ответила:
— А я-то, собственно, кто по-вашему?
Характернейший момент: выслушав пересказ этой истории от Игнатовой, я почувствовал лишь легкое неудовольствие. Мы в ту пору дружили; общий гнет сближал тех, кто на деле далеко отстоял друг от друга мировозренчески. Интересно, какими глазами она видела Померанца, который почвенником всё же не был? Годы спустя, уже в эмиграции, ее почвенничество положило конец нашей с нею дружбе.
С Померанцем и его женой, поэтессой Зинаидой Миркиной, я познакомился 3 июня 1983 года, в разгар оживления вокруг Айдесской прохлады и моего Ходасевича. Гость выступал на Васильевском, потом на площади Мужества (содрогаюсь, выписывая это идиотское название) с квартирным докладом о Мандельштаме и еще о чем-то. Во время одного из его выступлений, где народу было немного, я чертил на листке какие-то орнаменты, что люди нередко делают, слушая не совсем интересное, например, при затянувшемся телефонном разговоре. Он, увидав (уже при общей беседе) этот абстрактный вздор, почему-то вдруг усмотрел в нем художественные достоинства, а во мне талант рисовальщика, чего я напрочь лишен. После его доклада происходило что-то вроде импровизированного банкета. Говорили обо всем сразу. Среди прочего, Померанц сказал, что знаменитость он только в Ленинграде, а в Москве — чуть ли не клерк в глазах большинства; то есть его, как ему думалось, не в достаточной степени замечают. На минуту мы оказались с ним на балконе; под нами было десять этажей; я признался, что боюсь высоты больше смерти.
— Есть много вещей, — откликнулся он, — которых я боюсь больше смерти. На войне это были танки.
В комнате, как раз после того, как Ирма Кудрова сделала какое-то замечание в связи с моим Ходасевичем, Померанц произнес тост за то, что «в этом городе не переводится интеллигенция», и я, скромно потупившись, принял его на свой счет; может быть, зря.
В свой черед Айдесская прохлада привела меня в квартиру 26 дома 7 по улице Рубинштейна, к Иде Моисеевне Наппельбаум (1900-1992). Дочка знаменитого фотографа, в юности она писала стихи, знала Гумилева, видела (в том числе и у себя в доме) Ходасевича. Ей хотелось, чтобы я занялся стихами и архивом ее первого мужа, Михаила Александровича Фромана (1891-1940), последователя Ходасевича. Меня предложение застало врасплох. Из вежливости и почтительности я пообещал постараться, хоть и не скрыл от нее ни моих отъездных планов, ни моей чудовищной жизни, почти не оставлявшей мне времени и сил на такую роскошь как культура. Видно, и Наппельбаум, среди прочих, думала, что для меня мои штудии — что-то вроде расчетливого трамплина к известности; а может, и не думала такого, просто хотела вернуть к жизни прошлое, и тут я подвернулся; бог весть. В августе 1981 года я несколько раз приходил к ней, разбирал в ее присутствии рукописи и публикации, делал выписки — и всё время чувствовал неловкость, особенно когда она меня посадила один раз обедать; чувствовал, что ем чужой хлеб. Как и следовало ожидать, Фроман (настоящая его фамилия была, хм, Фракман) оказался хорошим стихотворцем, честным приверженцем, но — второй производной от Ходасевича. Пищи для души тут вовсе не было. Володя Иосельзон, приятель Пудовкиной, фотограф, снял нас с Идой Моисеевной. Эти снимки, если они живы, как раз и стали единственным результатом моей работы над Фроманом, затеянной вполсердца. Сделанные тогда выписки — передо мною. Из них видно, что Фроман был хорошим человеком. Писал для детей. Состоял секретарем секции переводчиков при союзе писателей. Помогал людям: доставал путевки, дрова… При наступлении свобод Ида Моисеевна напечатала что-то из своих воспоминаний и прислала мне на Би-Би-Си — чуть ли не в самый год своей смерти. Я не сумел откликнуться.
Рассказать о Ходасевиче меня звали даже в совсем незнакомые дома; например, 23 января 1982 года я оказался на Гражданке, на улице Ушинского д. 23/2, кв. 58, у некого Василия Чернышева. Среди слушателей знакомых не было, зато были дамы с детьми лет 10-12, видно, решившие их просветить насчет русской литературы. С детьми как раз и вышла неувязка.
В ходе рассказа я добрался до стихотворения Под землею. Моей целью было показать, что в поэзии нет запретных тем. Любой материал годится и может стать дивной лирикой — не годится только упиваться низостью, как это делал Маяковский.
|
Где пахнет черною карболкой И провонявшею землей, Стоит, склоняя профиль колкий Пред изразцовою стеной. Не отойдет, не обернется, Лишь весь качается слегка, Да как-то судорожно бьется Потертый локоть сюртука. Заходят школьники, солдаты, Рабочий в блузе голубой, — Он всё стоит, к стене прижатый Своею дикою мечтой… |
Вот, в сущности, и весь натурализм. Дальше у поэта вообще идет рассуждение. Однако ж перед тем, как начать читать стихи, я предупредил, что они — об онанизме. Среди мамаш началась паника. Детей вывели. Я пытался убедить их, что ничегошеньки дети не поймут — потому что и взрослые-то не понимают; не поняли бы без моего объяснения. Ведь решительно никто не понимал в советское время пушкинский Платонизм (из Парни; «Я знаю, Лидинька, мой друг, кому в задумчивости сладкой ты посвятила свой досуг…»), но нет, убедить их не удалось; урок русской словесности не удался; от поэта всегда жди гадости… Потом у Чернышева, как водится, было чаепитие. Пожилой джентльмен, физик, рассказал между делом о своей поездке в Канаду: как там спокойно во всех смыслах; как он гулял по ночам — и прохожие его приветствовали, словно знакомого…
Годы спустя мне довелось заглянуть в любопытную книжку Томаса Лакера. Автор называет год, с которого в Европе переполошились по поводу онанизма: 1712. В Лондоне вышла в тот год книжка, бывшая по жанру рекламной брошюрой: рекламировала средства против онанизма, а попутно объясняла, что онанизм ведет к слепоте, параличу, легочному и костному туберкулезу, эпилептическим припадкам, шумам в сердце, к истерии. В классической Греции и Древнем Риме в мастурбации большого греха не видели. Диоген Синопский, тот самый киник, что жил в бочке и практиковал крайний аскетизм, публично предавался этому занятию на городском рынке Афин. Римский врач Гален (II век) рассказывает про того же Диогена, что однажды он послал за проституткой, но она опоздала: «рука философа спела свадебную песнь раньше». Шуточки об онанизме находим у комедиографа Аристофана. До 1712 года всё и сводилось к шуткам, а потом началась паника. Догадались о подвохе во второй половине XX века; весы качнулись в другую сторону: в 1970-80-х мне довелось услышать в Ленинграде, что онанизм — полезен…
Мои стихи тоже начали пользоваться некоторым спросом — не иначе, как в связи со слухами о Ходасевиче. Существовал салон Галины Грининой — где-то на Охте, сколько помню: квартира, увешанная картинами. Картины представляли кого-нибудь из полуподпольных художников; приглашенные приходили их смотреть; в другие дни под картинами рассаживались слушатели, а поэты (может, и прозаики) читали. Я там слушал москвича Сергея Гандлевского. Стихи мне понравились, а почвенничество — совсем не понравилось. В одном из стихотворений он рассуждал об эмиграции, отвергая ее для себя: мол, уеду, а потом вернусь бросить взгляд на родину «с турецкой, быть может, женой… о чем я спрошу свою душу, о чем, на каком языке?» Меня это так разозлило, что я на эти строчки эпиграмму сочинил, впрочем, неудачную. Я в ту пору уже прочел и очень ценил отповедь, которую Шаховская дала Ахматовой — за ее несправедливость к эмигрантам и несколько экзальтированный патриотизм. У Ахматовой получалось, что люди плохи, да родина хороша. Мне это казалось (и кажется) противоречием в терминах. Родина и есть люди.
Дошла очередь до меня. Меня тоже позвали читать. Никогда не забуду своего удивления: квартира оказалась переполнена, люди в коридоре теснились, в комнате — на полу сидели. Незачем говорить, что публику я разочаровал (в другой раз, в том же салоне, я краем уха слышал замечание М.Ш., сказанное так, чтобы я слышал: «Чего все так носятся с этим Колкером?») Читал я медленно, тихо, монотонно, намеренно не подвывая, не прикрашивая ничего голосом; а хуже всего то, что я устроил два отделения; сказал, что после перерыва вместо грустных стихов почитаю эпиграммы и посмешу публику. Ничего глупее нельзя было придумать. Перерыв расхолаживает, стихов на самом деле люди не хотят, хотят поговорить. А хуже всего то, что эпиграммы были плохи. Виталий Дмитриев, спасибо ему, так это и констатировал:
— Ну, Юра, — сказал он несколько загадочно, когда я закончил, — стихи — стихи. А это-то зачем?!
Случилось у меня еще одно выступление в совершенно незнакомом месте, где-то на южной окраине города. Через всю жизнь я пронес идиотскую выдумку: ужас перед опозданием. Есть места, куда, собственно говоря, даже неприлично не опоздать; например, туда, где собрались ради тебя и тебя ждут; приходя вовремя, ты у людей предвкушение отнимаешь, всё равно, радостное или злорадное. Рассудком я всё это всегда понимал, а на чувственном уровне опоздание было для меня смерть, позор. Являемся мы с Таней по названному адресу к указанному часу; открывают нам дверь и спрашивают: а вы кто такие? Да вот, говорю, меня позвали стихи читать. Мы пришли первыми. Пренеприятный момент. Но дальше вышло интересно. Чтение состоялось с обсуждением. Среди слушателей оказался Виктор Кривулин, один из вождей полуподпольной поэзии и Клуба-81. Я Кривулина всегда сторонился. Мы с ним учились на Петроградской в одной школе, но ни тогда (он был классом или двумя старше), ни в дворцовские времена, ни в эпоху кочегарок мы не общались — и номинально даже знакомы не были. Однажды, на свадьбе Сергея Стратановского, не вступая в беседу, обменялись колкостями. Он говорил кому-то:
— Еврей — это профессия.
Должно быть, вычитал или услышал стандартную фразу вроде I profess Judaism, означающую, собственно, «я исповедую иудаизм; я придерживаюсь иудаизма». По-английски в ту пору начинали читать, а понимали иногда с запинкой. Сказано было не мне, но так, чтобы я слышал. Во второй литературе, сколько помню, один я открыто отворачивался от православия и не скрывал интереса к еврейству. Это раздражало. Я поддался на провокацию; сказал Тане (тоже словно бы продолжая беседу):
— Еврей — это призвание.
Тут, на чтении моих стихов в неведомой квартире, Кривулин и другие, когда я отчитал, начали критиковать меня. Смысл сводился к тому, что я придерживаюсь устаревшей эстетики и — «занимаюсь в стихах никому не нужным самокопанием». Я пожал плечами и выложил мой стандартный набор мудростей: хорош я или плох, судить не мне; для меня — не во мне дело; но я верен моему пониманию поэзии, взятому у тех, кто мне дорог, в первую очередь — у Пушкина. Пусть я мал; что выросло, то выросло; пишу, как умею; зато я не с крученыхами всех мастей, не с маяковскими и не с хлебниковыми. Традиция умнее самого умного из нас. Она и законы языка — данность. Сознательный отход от традиции — дело недобросовестное… Разумеется, в моем воинствующем консерватизме был вызов; как многие годы спустя отметил один критик, это, в известном смысле, авангард наизнанку. Правда и то, что традиция, понятая вслепую, втупую, страшна; достаточно Мориака перечитать, но об этом я тогда не думал и не говорил.
Неожиданно в мою защиту выступил художник Валерий Мишин, которого в ту пору называли лучшим графиком России. С ним я был едва знаком, знал его в лицо — и знал его работы, тянувшие в сторону авангарда. В том-то и состояла неожиданность, что за меня вступился эстетический противник. Еще неожиданнее оказалось то, что он говорил о нравственном наполнении моих стихов, о честной передаче мучительного разлада с собою и действительностью. Как я ему был признателен!
На этом неожиданности не кончились. Несколько непоследовательно Кривулин вздумал вдруг убеждать раскритикованного им автора вступить в Клуб-81. Я категорически отказался. Так мы и разошлись, не познакомившись.
Мишин приходился мужем Тамаре Буковской, от которой явилось мне предложение подготовить стихи Ходасевича для Парижа. Потом мы с ним встречались. Есть снимок, где мы сидим под его работами, выставленными в Доме писателя на улице Воинова. В 2006 году, когда я гостил в Петербурге, Мишин пожелал нарисовать мой портрет. Я с благодарностью согласился. Работал он часов пять. Мы, разумеется, болтали о разном. Я сказал, что хочу рассказать ему о случившейся со мною неприятности. Он ответил, продолжая работать:
— О неприятном — не нужно.
Но я всё-таки рассказал. Должно быть, из-за этого портрет вышел непохожий, что Мишин сам же и отметил. Однако он, портрет, оказался странным образом похож на другого человека: на моего покойного отца.
— Что ты всё стучишь? — спрашивала пятилетняя Лиза, когда я засиживался за машинкой.
— Работа у нас такая, — отвечал я словами песни; и добавил неосторожно. — Я — стукач.
На коммунальной кухне она оповестила об этом соседей. За стенкой или во дворе мерно постукивали, и она сказала:
— Ой, стукач стучит. А наш папа — тоже стукач.
Доносительство висело в воздухе, но настоящего страха, того, в котором прожили жизнь мои родители, уже не было. К отцу в годы его молодости повадился ходить по дружбе некто «Васька Сорокин»; мать нередко его вспоминала; в эвакуации вскрылось, что он был приставлен наблюдать за отцом. Я всегда спрашивал себя, как вышло, что отец не сел? Такое же чудо, что и с армией. Вокруг нас не было буквально ни одной семьи, не затронутой репрессиями, — только наша. Конечно, отец не состоял в партии; вот, думал я, решающий фактор. Вдобавок, нравом был он кроток, честолюбия лишен до неправдоподобия, — ну, и осторожен; даже с сыном никогда не говорил на рискованные темы, да и вообще почти не говорил. Зато уж сын выдался, что называется, с обратным знаком.
В литературных кругах многие находились под подозрением. Ловцы душ умело расставляли сети. Поэту В. Д., например, предложили (по слухам) доносить, и он, по нраву и поведению — самая что ни на есть полуподпольная богема, самая сердцевина мира кочегарок, согласился — с мыслью перехитрить литературоведов в штатском: решил, говорят, сообщать своим об интересе к ним со стороны чужих, о чем своих и оповестил. Но перехитрить специалистов нельзя. Думаю, в этом случае дело далеко не пошло. От В. Д они сами отступились, слишком уж явно не годился он на такую роль, да и былая прыть из «органов» ушла. Но даже в самый разгар слухов о его сотрудничестве мы с Таней не делали для него исключения — принимали наряду со всеми и чаем поили. Дом у нас был проходной: центр города, рядом союз писателей (куда и полуподпольные заглядывали); приходили к нам самые разные люди по нескольку раз на дню и без звонка. Мы для себя положили дурному ни про кого не верить. Подход этот себя оправдал. Другое наше правило, сложившееся по мере того, как сумерки сгущались, состояло в том, чтобы всё (с поправкой на журнал Сумма) всегда говорить открыто, в том числе и по телефону, который прослушивался. Я никогда не чувствовал себя героем, скорее наоборот, но нравственная правота была до такой степени со мною, а не с ними, что, оказавшись на последней черте, я расправил плечи и почувствовал себя свободным. Очень еще то помогало, что все мы тогда верили в будущую Россию; верили, что наш скорбный труд не пропадет; стандартное обольщение, но какую силу оно сообщает людям!
Случилось, что сперва позвонил, а потом явился (16 мая 1981 года) некто Дима Ариан, энергичный человек, — с приветом и деньгами от наших друзей Эпельманов, обосновавшихся в штате Вирджиния. Денег принес столько, что мы ахнули: 600 рублей. Как не поверить такому человеку? Сам он жил странным трудом, творческим: мастерил большие тряпочные куклы для кукольных спектаклей — и за каждую получал примерно такую же вот кругленькую сумму. При нем была жена Ира, работавшая в Промкооперации, так по-старинке называли дом культуры Петроградской стороны. Они и у себя один раз меня принимали, и мне бросилось в глаза, что стиль поведения Иры — какой-то начальственный. Общей темой был отъезд, борьба за выезд; они, по их словам, тоже собирались, но решительного шага еще не сделали. Обменивались опытом и надеждами. Ира (Ирина Николаевна) сказала, что может с работой посодействовать. Дружба, однако ж, не получилась, после двух-трех встреч сошла на нет, а когда через месяц или около того я-таки позвонил Ирине Николаевне насчет работы (насчет кочегарки в Промкооперации; я собирался уходить из Теплоэнерго-3 и подыскивал место), я вдруг услышал по телефону такую холодную отповедь, что сперва опешил, а потом спросил себя: не прямо ли из Большого дома были нам принесены эти 600 рублей?
От Жени Левина из Нью-Йорка я получил адрес Иры и Гришы Р-нов, давно мечтавших об отъезде, но при тогдашних рогатках даже не пытавшихся пойти в ОВИР; им было просто физически не собрать нужных документов. С этой семьей мы подружились тесно, по-настоящему, чему и то способствовало, что у Гриши с Ирой был сын Миша, лизин ровесник. Гриша из ученых спланировал в завхозы, работал в каком-то Вымпеле, Ира преподавала литературу в школе. Всё в их семье, включая дружбу с нами, держалось на ней, яркой, живой, артикулированной. У Р-нов имелась машина москвич, что в те времена означало более высокую социальную ступень, да сверх того — и отдельная двухкомнатная квартира, о чем мы и мечтать не могли. Из всех, кого я знал в Ленинграде, автомобилистом был еще только один человек: Георгий Трухин, муж моей двоюродной тетки Беллы Циммерман, доцент. Машина покупалась раз и навсегда, на всю жизнь. Машина Трухина, собственно, должна была стать нашей, родительской. Отец всю жизнь мечтал об автомобиле, выстоял пятнадцатилетнюю очередь, но когда очередь подошла, денег у моих родителей на такую покупку не оказалось, а у Трухина как раз деньги были, он попросил уступить ему очередь — с тем, чтобы через несколько лет, когда его очередь подойдет, свою очередь уступить нам. Так отец и сделал. Но когда у того очередь подошла, цены на машины взлетели непомерно, и о покупке уже не могло быть речи. В машину Трухина никто из моей семьи ни разу не садился, даже не видел ее. В машине Р-нов мы с Таней и с Лизой покатались; ездили с ними на залив; ездили даже в Нарву — за «вкусно-молочными» продуктами, за легендарными сливками такой густоты, что в них ложка стояла (таких, впрочем, нам не досталось; зато я купил прыгучий мячик, помещавшийся в ладони, и долго играл с ним). В ту пору ходила шутка: через столько-то лет у каждого советского человека будет самолет. Тут слушавший ахал и спрашивал: зачем? А рассказчик объяснял: ну как же! вообрази, что в Мурманске «дают» колбасу; ты садишься в свой самолет и летишь за колбасой в Мурманск. Шутка была не совсем шуткой. Поездки в другой город (в другую республику) за продуктами были рутиной советской жизни. Из Красноярска (!), это я знаю точно, мои знакомые раз в месяц вскладчину снаряжали человека в Москву за мясом… У нас на улице Воинова, у них на Кузнецовской (д. 13 кв. 13) — мы с Р-нами не раз отмечали семейные праздники; души друг в друге не чаяли. Но на проводы, когда мы уезжали, ни Гриша, ни Ира прийти не смогли; ни на отвальной не появились (а там уж кого только не было), ни в аэропорт не приехали. В Израиль ответили они только на одно наше письмо и замолчали. Оставленные им для последующей пересылки книги (среди них — десятитомник Пушкина) присланы были нам спустя пять лет, накануне их, Р-нов, отъезда в США. Из Америки они тоже не писали нам — будто и не было дружбы. Что за внезапное охлаждение? Мы их ничем не обидели. Но вот случилось, что в Израиле я как-то упомянул человека, которого не раз видел у Р-нов, и мне с уверенностью сказали, что он — стукач. Может, и дружба Р-нов была с двойным дном? Может, им посулили облегчить их выезд за сведения о нас? Не утверждаю этого, а исключить не могу. Что других наших знакомых расспрашивали о нас — об этом то и дело доходили до нас слухи.
У моих родителей был садовый участок в Песочной, в двадцати минутах езды от Финляндского вокзала в сторону Зеленогорска. Мать не совсем ладила с тещей, и вышло так, что Лизу на эту дачу нам вывозить летом было нельзя. В 1976 и в 1977 годах мы снимали в Вырице, километрах в пятидесяти на юг с Балтийского вокзала. Тогда я впервые с удивлением почувствовал, что «на юг» не сводится к географии: на север от города, в сторону Карельского перешейка и Финляндии; даже на восток, в сторону Ладожского озера, — всё это было родное и свое, понятное, близкое, а на юг — чужое. Моя ли это была выдумка или тут что-то закономерное кроется? Вырица — название в той же мере финское, что и Лахта.
В Вырице снимал дачу Валера Скобло с женой Таней и пятилетней дочерью Олей, а у поэта Александра Кушнера, к которому мы с Валерой в начале 1970-х ходили в литературный кружок, был собственный, точнее, отцовский, дом. Отец поэта, военный моряк в отставке, монументальный, на голову выше сына, тоже иногда присутствовал в этом доме, но словно бы в стороне от жизни младших: от Александра Семеновича, его жены Тани и их сына Жени, подростка. На стене висела в рамочке какая-то орденская или иная почетная грамота, выданная старшему Кушнеру за морские заслуги, и я с удивлением увидел из нее, что он — вовсе не Семен, как можно было заключить из отчества поэта, а Соломон.
Замечательной особенностью этого дома был стол для пинг-понга. Заядлых игроков оказалось трое: поэт, Женя и я. Тут во всей своей беспощадной наготе предстал перед нами знаменитый парадокс Кондорсе — о том, что в иных случаях демократия в принципе не способна решить вопрос или выделить лидера голосованием. Берем трех голосующих: А, Б и В; А голосует за избрание Б, Б — за избрание В, а В — за А. Тупик. Треугольник, хоть и не лирический. У нас эта схема предстала в другом обличье. Женя выигрывал у отца, Александра Семеновича, но проигрывал мне, я же проигрывал Александру Семеновичу (не иначе, как из почтительности), так что выявить чемпиона было нельзя. Занятно, что мы с Женей играли по-настоящему, с эффектными рискованными ударами и артистической защитой, вблизи от сетки и вдали от нее, с подкручиванием мяча и неожиданными подачами. Специально не занимаясь пинг-понгом, я играл в молодости в силу третьего разряда; Женя — тоже. А вот поэт играл без всякого артистизма, на отбой, тут не было ни нападения, ни защиты, только быстрая реакция. С детства я, да и вообще все игравшие, этот стиль презирали, называли тырканьем, но при игре приходилось с такими игроками считаться, потому что они иной раз побеждали…
Валера Скобло в пинг-понг не играл и к Кушнеру не ходил или ходил редко; ко мне тоже (а я к нему ездил на велосипеде). За всю мою жизнь я не встречал человека более самодостаточного. Как на моем отце, на нем всегда лежала печать какого-то грустного знания, которым нельзя поделиться. Как мой отец, он не искал ничьего общества. Мне казалось, что его облик можно передать двумя словами: Бог обманул. Как и отец, Валера в Бога не верил.
В Вырице имелась и волейбольная площадка, но уровень тамошней игры вводил меня в полное уныние; мне, перворазряднику, просто нечего было там делать. Располагалась площадка на улице Жертв революции, и я уверял Валеру, что это название — в нашу с ним честь, а что касается жертв, то не мешало бы завести улицу Жертв резолюции. Мы с ним гуляли по этой улице и спорили, я отстаивал толстовство, он — язвительно и грубовато опровергал его пункт за пунктом. Отчего же это, спрашивал он, твой Толстой рекомендует в семейной-то жизни воздерживаться от половой близости? Я на это отвечал ему риторикой классика и сам себе удивлялся: что несу?! Еще один фрагмент удержала память. После знаменитой операции Энтеббе (освобождения израильских заложников в Уганде) Валера, в ответ на мое пожатие плечами и «Ну, и что?», сказал:
— Но что это говорит о вооруженных силах страны?
Я опять пожал плечами. Мне казалось в 1970-е, что из еврейства мы уже вышли. Если тебе небезразличен Израиль, езжай в Израиль, свяжи с ним свою судьбу. Но Валеру вообще многое интересовало — в этом смысле он (в отличие от меня) из еврейства совсем не вышел. Вдобавок он еще и специалистом был первоклассным.
Летом 1976-го Лизе было два с половиной года, но ростом она была немногим меньше пятилетней Оли, зато та сочиняла стихи. Помню, как Оля слушала мои — с горящими глазами. Читал я у них на даче Элегию:
|
Когда я был молод, меня нищета привлекала, Казалось, для мысли она и для гордости место дает. Италия с ней уживалась: большое лекало В оправе тирренских и адриатических вод… |
Оля подавала надежды, дружила с отцом, да и он с нею дружил по-настоящему. Что касается стихов Валеры, то любовь к ним я пронес через всю жизнь. Во многих других авторах разочаровался, в нем — нет. Его нехватку мастерства, очень наглядную, его шероховатость и (местами) почти косноязычие — всегда мысленно сравнивал с теми же свойствами державинской лиры.
В 1978 году мы с Таней решились на дальнюю поездку с новыми друзьями. Юра Гольдберг и Аня Сарновская работали геологами на Кольском полуострове, а в Ленинграде, на Зверинской улице, у них сохранялась «жилплощадь»: комната в коммуналке; существовала такая льгота тем, кто работал за полярным кругом. В этой замечательной квартире мне запомнился рыжий кот двадцати одного года от роду и величиной с небольшую рысь.
С Юрой и Аней нас свели отказницкие дела. То ли они пришли к нам советоваться насчет отъезда, то ли мы к ним. По этой линии в ту пору легко завязывались знакомства. Юра оказался мрачен, но без тени надменности, Аня — общительна, оживлена. Располагали они к себе разом, понравились нам так, что мы потом долго сетовали на разъединившую нас судьбу, — и это несмотря на разницу в возрасте (они были старше) и в интересах (в этой семье не стихи любили, а песни под гитару). Юра был мрачен неискоренимо; и было, отчего. Его отец в 1930-е возглавлял электромеханическую службу московского метро; в 1936 году, когда Юре было пять месяцев, отца арестовали; спустя полтора года, уже в ссылке, арестовали и посадили мать. Тетка Юры, младшая сестра матери, забрала ребенка и растила его, как родного сына. Отец в застенках был обвинен в терроризме и вскоре расстрелян; мать уцелела, но сошла с ума; вернулась, когда Юре уже было 10 лет (и о существовании родной матери он не знал)… Нужно ли продолжать?
— Не хочу, чтоб с моими детьми случилось подобное, — говорил Юра.
У них было двое чудесных мальчиков, десятилетний Сережа и двухлетний Котя.
Летом Гольдберги отправились в Крым, но не туда, куда все ездили, а в места неожиданные, татарские, хазарские и готские: на самую западную равнинную оконечность, на Тарханкутский полуостров, в поселок Оленёвка. Поехали и мы туда вслед за ними. Тут и выяснилось, что лизин диатез проходит прямо на глазах, как по мановению волшебной палочки — от воздействия климата. Места оказались чудесные. За деревней — десять километров песчаного пляжа, и никаких курортников. В пяти километрах от деревни — Отлеж, небольшая бухта, окруженная скалами неимоверной красоты (там снимался советский фильм Человек-амфибия, по роману писателя-фантаста Александра Беляева). Но добираться до ближайшего городка Черноморска (бывшей Ак-Мечети) от Оленёвки было трудно; один автобус в день — и забитый так, что иной раз ты, стоя, пола под собой не чувствовал (а уж о том, чтоб сесть, и не мечталось; люди с ночи занимали очередь на мысе под маяком).
Откуда в татарских местах Оленёвка? Олени водились только на коврике над кроватью в украинской хате бабы Кати, где мы снимали жилье. По-соседству обнаружились и другие не совсем местные названия: Окунёвка, Медведёвка. Объяснялось это просто. Получив Крым в подарок от Хрущева, Украина стала его заселять. Крестьянам подъёмные платили; ну, и освоили они целину, отобранную у коренных жителей.
Маленький Котя еще не говорил толком, но мог повторить и повторял любую мелодию. Все были убеждены: он станет музыкантом. В сущности, почти так и вышло… почти. В 1980-м, вопреки всем ожиданиям, Гольдберги получили разрешение и уехали в Канаду, в Калгари. Там дети выросли. Сережа пошел в университет, Котя — в музыку, только не в классическую; он немножко играл на всех инструментах, а на жизнь зарабатывал — татуировкой. Незачем говорить, что и сам он оказался покрыт ею сверху донизу.
Летом 1979 года, после таниной операции, мы снимали дачу в Горской, вдоль Приморского шоссе, за Лисьим Носом, — снимали вместе с таниной ближайшей подругой Ниной Геворкянц и ее дочкой Женей, тремя годами моложе Лизы. Таня была еще очень слаба после операции, ходила с палкой. Нина обещала делать за нее почти всю дачную работу — и не обманула. Осложняла общежитие только маленькая Женя, которой следовало бы родиться мальчишкой — так была резва, проказлива и бесстрашна. В связи с нею, с ее рождением, я узнал о престранном законе, всегда действовавшем в Российской Федерации. Дело в том, что Нина по паспорту значилась армянкой (с тем же успехом она могла записаться и полькой — по матери), а отец Жени был из вепсов, не подумайте дурного: из той самой веси, которая вместе со словенами ходила в девятом веке к варягам просить себе князя. Так вот, закон республики предусматривал в мое время для таких детей право записаться русскими. Если оба родителя — разной «национальности», притом любой; если даже ни один из них не значится русским, — всё равно перед ребенком открыты братские объятия первого среди равных.
В сущности, это был самый что ни на есть цивилизованный и европейский закон, но с одной маленькой оговоркой: графа национальность во внутреннем российском паспорте (удивительном документе, направленном против крестьянства: только у колхозников паспортов не было) имела в виду этнос, а не гражданство. Закон и тут был прав и разумен, отвечал традиции. Исторически русские никогда не были племенем, всегда — смешением племен, — с первых шагов истории, с того момента как это имя — русь — впервые прозвучало. Оно и прозвучало-то, к слову сказать, не по-словенски, а по-фински, где руотцы по сей день означает Швеция. Из текста летописи (на что никто до сих пор не обращал внимания) видно, что чудь, а не словене первыми обратились к варягам. Шли все вместе, а говорили — финны:
И идоша за море к варягамъ, к Руси… Реша руси чюдь, словене и кривичи и вси: земля наша велика и обильна, а наряда в ней нетъ. Да поидите княжить и володеть нами… И от техъ варягъ прозвася Русская земля.
Этот исторический разговор шел на языке, понятном варягам и финнам, но не словенам, которые получили слово готовеньким, услышали его не совсем точно и трансформировали услышанное имя из руотцы в русы. Дальше — по летописи. Под новым именем объединились несколько северных племен. После захвата Киева к ним прибавились южные: хазары и евреи. Отсюда и «пошла есть». Князь Игорь, столь неоднозначно воспетый в Слове о полку Игореве, по духу — на сто процентов русский, а по крови — по крайней мере на половину, если не на три четверти, половец. Вот и Женя (фамилия у нее была Пóлина) оказалась русской. Всё правильно (за вычетом советской власти, конечно). Потом судьба Жени так повернулась, что она стала норвеженкой и родила четырех викингов.
Для меня 1979 год проходил под знаком Боратынского. Я еще служил в СевНИИГиМе, а после работы отправлялся в Публичку — читать сокровище: толстенную диссертацию норвежца Гейра Хетсо (Geir Kjetsaa) о Боратынском, написанную по-русски. В судьбе поэта бросалась в глаза лакуна: его детский проступок советские источники ханжески замалчивали. Не было ни одной книги, где об этом можно было прочесть, — ни одной! Получалось, что нас, читателей, власть за каких-то недоумков или несмышленышей держала. Что тут было скрывать?! В Пажеском корпусе мальчишка — чисто по-мальчишески — проворовался. Играл в благородных разбойников в компании таких же сорванцов, пажей Приклонского и Ханыкова (не иначе как от хануки; но тогда я и слова этого не знал), на дворе-то Шиллер стоял во весь рост. Создали Общество мстителей.
«Приклонский, подобрав ключ к бюро своего отца, обеспечил общество казенными деньгами, на которые мальчики покупали конфеты, фрукты и даже вино. Тайные пиры на чердаке… Приклонский [старший] в отлучке, Боратынский и Ханыков, выпив по рюмке ликера для смелости, вынули из бюро камергера пятьсот рублей ассигнациями и черепаховую табакерку в золотой оправе…»
На следствии Боратынский признал себя начальником Общества — и в апреле 1816 года был исключен из Пажеского корпуса, с разрешением выслужить вину солдатчиной. Всего этого нам знать не полагалось, русский поэт (Россией по сей день не прочитанный) должен был представать беленьким, с крылышками. Повторю в сотый раз: ужас советской власти в мое время состоял уже не в ее жестокости, не в первую очередь в жестокости, а в пошлости и бездарности. Как понять стихи Боратынского и его жизнь, не зная, за что он в солдаты угодил?
Писал Хетсо по-русски на удивление правильно, но всё же не без петухов вроде «имел влияние над цесаревичем». Я не знал, чему больше удивляться: правильности или срывам. Как я был ему благодарен, как мне хотелось подружиться с этим человеком! Рядом с мертвечиной советских литературоведов его текст был живой, обаятельный — и всегда (в биографической части) развивался умно, ставил те вопросы, которые напрашивались.
«Больше всего бросается в глаза непобедимая страсть юноши к резонерству…»
За одно это кинешься ноги обнимать. Мы-то ведь одни агиографии знали. А провал на экзамене? Разве не хотелось узнать об академических успехах поэта? Пушкин, между прочим, окончил лицей третьим с конца по успеваемости. Тоже не блистал. Но и это было тайной мадридского двора в советских пампасах. Простую истину — что ни один из великих писателей не был вундеркиндом, что писателем человека делают случай и общество, а не логарифмическая линейка в генах, — приходилось добывать из-под глыб.
Двадцать лет спустя мне случилось взять у Хетсо по телефону интервью о Боратынском для русской службы Би-Би-Си. К этому времени я уже читал его статьи, многого от интервью не ждал, да ничего и не получил…
По вечерам я приезжал в Горскую и, захлебываясь, пересказывал прочитанное и продуманное, а Таня и Нина, уложив детей, слушали. Мое радостное возбуждение передавалось им. Слушали меня с интересом, но понимали очень по-разному. Нина, женщина яркая, во всем, от внешности до характера, резко прочерченная, была умна и артикулирована, ее нравственные суждения обо всем могли служить эталоном, но стихов она не чувствовала и прошлым не интересовалась, вся была в сегодняшнем дне, в своей профессии (она преподавала английский) и в своей нелегкой жизни. В ту пору это было для меня загадкой; мне казалось, что каждый умный человек должен любить и понимать стихи, — заблуждение, восходящее к нездоровой атмосфере послесталинской оттепели, когда посредственные стихотворцы собирали стадионы слушателей, изголодавшихся по свободе.
Тем летом приехал из Красноярска мой оппонент по диссертации, Владимир Николаевич Белянин; он привез мне (был проездом в Москве, в ВАКе) мой окаянный кандидатский диплом, утративший актуальность: наукой я больше не занимался. В Ленинграде я водил Белянина по литературным и живописным салонам; он всем интересовался, записывал мои комментарии, просил рукописей и журналов самиздата, приценивался к картинам одного полуподпольного художника, которым я в ту пору увлекался. Человек он был от сохи, вырос в Сибири, ученым стал своим горбом, внешне же представал этаким Васькой Буслаевым, типичным былинным новгородцем (только ростом не вышел): белокурый, несколько неуклюжий, но сильный, востроносый, с самыми, насколько я мог судить, славянскими чертами лица. Этим наблюдением я с ним и поделился: сказал, что не знаю более типичного славянина, чем он. В ответ славянин задумался на долгую секунду, а потом огорошил меня: сказал, что его бабушка-сибирячка была еврейкой… огурцы солила, картошку сажала… Вот вам и Лафатер с его физиогномикой! Но, однако ж, евреи-то каковы… В сознании советского человека всё никак не укладывалось, что они такие же люди, как все. Да-да, советского: я к этому времени уже вышел с вилами на паровоз, пёр против советской власти, но разве я не был плотью от ее поганой плоти?
…Или — не такие? В тот год я услышал от поэтессы Зои Эзрохи ее рассказ о брате-геологе. Брат проводил в экспедициях долгие месяцы и настолько привык жить по-походному, что однажды в приличной гостинице, в отдельном номере, улегся спать в спальном мешке. А вид он имел, в отличие от Белянина, несколько непристойный: глаза на выкате и громадный нос крючком, торчавший из черной, как смоль, бороды, а борода шла прямо от глаз. Приходит в номер уборщица, видит у стены мешок на молнии, но внимания на него не обращает, делает свое дело. Мало ли что там, в мешке. Тут мешок раскрывается с одного конца и из него высовывается голова, да какая! Бедная женщина кинулась бежать вон с воплем ужаса. Ее нашли в кладовке, в истерике. Принялись откачивать. Твердили:
— Это человек, человек!
Она не верила. Ее силой приволокли к человеку — потому что нужно было ведь дело делать, а она не могла, ее колотило. Человек улыбнулся несчастной (страшной, нужно полагать, улыбкой), произнес несколько слов на человеческом языке, а уборщица тыкнула в него пальцем и заорала:
— Обсригнуть!
В 1980 году Таня и Лиза опять жили летом в Оленёвке, на этот раз — с Ниной Геворкянц и Женькой. Трехлетняя Женька, по обыкновению, «откалывала номера». Сперва залезла на самую верхушку высокой ивы, а слезть не могла, и взрослые помочь были бессильны, ветки-то тонкие. Пришлось просить восьмилетнюю соседку, причем та, следуя инструкциям снизу, руками сдвигала вниз ножки безумной Женьки с ветки на ветку. Не успели порадоваться чудесному спасению и насмеяться вдосталь над наивной Женькой, как она до такой степени зацеловала безобидную уличную дворняжку, что та от отчаянья ей нос прокусила. Нос зажил (задолго до свадьбы; Женька потом вышла замуж в Норвегию), но поскольку женькин отец, врач (из вепсов), был помешан на гигиене, то в поезде, на пути домой, Женьке строго-настрого наказывали не упоминать об истории с собакой… С чего, вы думаете, она начала ему рассказ о своей южной поездке?!
В 1981 году мы с Таней и Лизой были в Алупке, в обществе Драгомощенки и Корёжи (Сережи Коровина). Компания там возникла замечательная, хоть и не без антисемитских осложнений со стороны Зины и Остапа, жены и сына верлибриста. Была там Майя Алексеева, вдова другого верлибриста, Геннадия Алексеева, с 11-летней дочерью, казавшейся совершенно взрослой девушкой. Генрих Гейне, сравнивающий себя с буридановым ослом в подобной ситуации, затруднился бы в выборе между матерью и дочерью; обе были хороши; со старшей я потом мельком встречался в Израиле. Обнаружилась в этой компании и одна из моих давних, еще школьной поры, подруг: Ира Миримова. Я в детстве знал ее как Иру Эльяшевич. Ее отец некогда был знаком с моим, оба работали в Гипроникеле, а с Ирой я иногда встречался в Песочной в летние месяцы и слегка приударял за нею. Наши с Таней восторги по поводу артистичности Корёжи она приняла к сердцу чуть ближе, чем следовало. Завязался роман с продолжением в городе. Я смотрел на всё это, как на кукольное представление; ведь взрослые же люди! Наоборот, им, если бы они задумались об этом, могла бы, наверное, показаться ребячливостью моя излишняя серьезность в понимании семьи.
Летом 1982 года мы гостили у Лены Пудовкиной и ее мамы, Нины Михайловны, в селе Орине, на границе Псковской области и Латвии. Дома там продавались за бесценок. Мама с дочкой, обе православные и, тем самым, не без примеси народничества (даром, что старшая оказалась еврейкой), обзавелись в Орине срубом и хозяйством. По-соседству, хоть и не близкому, такой же асьендой владела другая поэтесса, Елена Игнатова, с ее мужем Володей Родионовым (оба еще и в мыслях не имели, что вскоре станут израильтянами). Поэт Сергей Стратановский с будущей женой Валей тоже оказался в километре или двух, но, сколько помню, не в качестве домовладельца. Он, в духе своей эстетики, был, конечно, урбанистом, а вместе с тем и патриотом, причем не без некоторого национализма. Псковская земля давала пищу патриотическим мечтам и обидам. Бедность бросалась в глаза. За узенькой речкой, скорее ручьем, начиналась Латвия, и Роковые яйца Булгакова сами собою приходили на ум: там и коровы были тучнее, и даже трава гуще.
Летом 1983 года (нашим последним летом в России) случилось у нас целых два дачных выезда: первый — в Алупку, куда мы втроем отправились 9 июня. Жилье сняли на улице Красных партизан 8, по 2,50 с носа, а не у Инны Абрамовны Раппопорт, как планировали: там кровать оказалась с сеткой, Таня же с ее больной спиной на такой спать не могла, ей требовалось жесткое ложе. Комната была без окон, на первом этаже: чисто, просторно, стены и потолок — беленые, на стенах — Три медведя Шишкина да коврик с Волком и Красной Шапочкой; полы дощатые, густо крашеные бордовой краской, с ковриками-дорожками. Хозяйка Марья Григорьевна спала на проходной веранде с монументальным буфетом, который украшали большой фарфоровый петух, фарфоровый же матрос и гипсовый бюст Маяковского (с красными бусами вокруг шеи)… Я прожил там до 25 июня. Домой возвращался через Ялту и Симферополь, где взял билет на ближайший самолет.
Остаток лета 1983 года, с 7 августа, Таня с Лизой провели в Орине, но уже не у Пудовкиных, а в соседнем доме, где снимали жилье вместе с Ниной Геворкянц и ее маленькой Женькой. Я их отвез и вернулся в город. Изба бабки Любы Беловой оказалась грязновата и полна крылатых насекомых. Она держала серьезное хозяйство: двух коров, телку, борова, кур, двух собак (одну на цепи) и котенка. Готовить приходилось на русской печи. Сортир оказался так ужасен, что я ходил в лес. Мухи нещадно кусались. Бывая там наездами из Ленинграда, я пытался с ними бороться: отстреливал их резинкой, которую натягивал на длинную рейку; это приспособление называлось ружжо, потом оно и в городе употреблялось против комаров. Незадолго до своей норвежской свадьбы Женька напомнила мне стишки, которые я во время этой охоты импровизировал:
|
Мухи-мухи, комары, Вылезайте из норы! Чтоб вам зря не горевать, Мы вас будем убивать. |
Хлеб изредка завозили в соседний магазин, слух об этом немедленно пробегал по округе, образовывалась очередь, — но шел хлеб, главным образом, на корм скоту, для людей он не годился. За нормальным хлебом приходилось ездить на велосипеде в латвийскую Карсаву.
— Красивая девка, а куре, — сказал баба Маруся про Нину, и Стратановский объяснил нам, что эта оборванная глагольная форма — характерный псковский диалект.
Одно из стихотворений, начатых в Орине в 1982 году, я закончил в Лондоне, в 2005-м.
Баба Люба Белова уверяла, что лизины диатезные болячки можно разом вылечить: стоит только съездить к местной знахарке. Мы с Таней посмеялись (я наезжал в Орино; привез бабе Любе электрический чайник), подумали — и решили попробовать. Медицина известно из чего выросла, а ведь нельзя приобретать, не теряя. Ездили во второй половине августа 1983 года, на велосипедах, взятых у бабы Любы и Пудовкиных. Попали на прием со второй попытки. Знахарка заговорила не только Лизу, но и Таню; насыпала мелу в сахарный песок, масло и борный спирт. Ни той, ни другой легче не стало.
Рядом находилось латышское местечко Наудаскалнс, где я и оказался (приехав на велосипеде) 21 августа 1983 года: оказался на кладбище, на 42-й годовщине расстрела местных евреев нацистами. Тут, в отличие от Бабьего Яра, памятник был, пусть жалкий, но с маген-давидом и честными словами: «Вечная память евреям Корсовки». Видно, поставили сгоряча. А может, не сразу научились латыши дикой советской лжи — потому что при мне, на моих глазах, эта ложь уже развернула свое знамя: ни слова не было сказано о евреях, самое это имя не прозвучало над убитыми за принадлежность к еврейству (притом, что и собрались тут на 90% евреи), а вот о сионистах упомянуть (и соврать) — не постыдились. Играл духовой оркестр в составе шести человек; фальшивил умеренно; куда большей фальшью прозучали читанные тут стихи, оскорбительно бездарные. Из пяти выступавших — только один был евреем (еврейкой)… Погибло тут в 1941 году около ста человек. Примерно столько же и над могилой собралось…
Дочь значила для меня невероятно много — с момента рождения и лет до семи. Вижу себя под окнами родильного дома по адресу проспект Чернышевскогого дом 15, на пересечении с улицей Петра Лаврова (Фуштатской). Лизу в первый раз тоже там увидал, в окне, в кулечке. Когда ее принесли домой, я уже через день умел ее пеленать лучше Тани (которая беспрерывно болела), чем поражал отца. И не только пеленал: всё делал — кроме готовки; к плите так и не нашел подхода. О пеленках уже сказано: стирал их в ледяной воде, до нестерпимой боли в руках. Гладил пелёнки с двух сторон (сущее суеверие, конечно). Купали мы Лизу в кипяченой воде (еще одно суеверие; гигиена — неплохая штука, исторически, между прочим, очень недавняя; только доводить ее до абсудра не стоило). Воду кипятили в ведрах на коммунальной кухне. Всё было принесено в жертву этому предприятию: семье, понятой всерьез. Бог был тут, а наша коммуналка заменяла храм; другие храмы не требовались. Стихи не пишутся? Чорт с ними! Есть непосредственный человеческий долг. Остальное подождет.
Никогда ни до, ни после я не понимал интереса к младенцам, а тут переживал каждую мелочь как событие. Лиза (нам чудилось) опережала своих сверстников в развитии. В два года ошеломила мою мать. Та спрашивает:
— Ну, что она у вас говорит?
— Да всё говорит, — отвечает Таня. — Лиза, скажи аббревиатура.
— Ой, да что ты! Такого и я произнести не могу!
А Лиза тотчас повторяет:
— Аббревиатура. — Спокойно, без усилия. Она вообще была очень спокойным ребенком.
Соседку, тоже в два года, называла по имени-отчеству: Надежда Леонидовна. Никаких тетей и дядей по отношению к чужим у нас заведено не было; уменьшительно-ласкательные суффиксы тоже запрещались. Себя, двухлетнюю, представляла новым знакомым очень серьезно: Елизавета Юрьевна, — чем иных в оторопь повергала. Мне чудилось, что у нее — литературный дар. Ее слова (как и все элементы ее взросления) мы записывали в специальную книгу. Там оказалось много забавного, прямо по Чуковскому.
— Папа, помоги, — говорила она; а когда к Тане обращалась, то иначе: — Мама, момоги!
— Волк упал со стула… А Ефим Михайлыч — со шкафа…
Книгу пришлось бросить при отъезде в эмиграцию… Многое пришлось бросить.
Года в четыре начала Лиза сочинять двустишья, из которых одно я бы и себе охотно приписал:
|
В этой малости Много шалости. |
Телевизора у нас поначалу не было; от советской мерзости на экране мы отгораживались. Но оказалось, что ребенку всё-таки этот поганый ящик нужен; он и был куплен (30 декабря 1982 года) — в рассрочку. В течение года с лишним раз в месяц я ездил к чорту на кулички, за мост Александра Невского, на Народную улицу, и вносил по десятке. Что за мука была эти поездки!.. Домашняя шутка и каламбур, не оставлявшие Таню и меня в самые мрачные времена, стали тем воздухом, в котором Лиза выросла. Чувство юмора у нее было прекрасное. Передача Спокойной ночи, малыши! называлась у нас Спокуха, палачи! Сама Лиза внесла порядочный вклад в каламбуры. Одного телевизионного pandit’а (жаль, я тогда не знал этого английского слова) она преспокойно назвала политическим обогревателем. Став старше, говорила:
— Мой папа — кочегар физико-математических наук.
Трудности для меня начались со школой. Не по блату, а по месту жительства Лиза попала в английскую школу 185 на нашей улице Воинова (Шпалерной), недалеко от дома, нужно было только Литейный проспект перейти — как раз у самого угла Большого дома, — и оказалась там в числе лучших учеников по английскому. Но тут же и другое обнаружилось: полное отсутствие у нее соревновательного инстинкта. В этом она уродилась в Таню, лишенную честолюбия (а внешне — в меня; я же предпочел бы обратное). Чувства времени тоже у нее не наблюдалось. Не опаздывать — не могла; ответственности — не понимала; уроки делала в каком-то сомнамбулическом состоянии. Я хотел от нее пятерок, она — хотела оставаться ребенком. Моя идиотская потребность гордиться ее внешними успехами в итоге испортила наши отношения на всю жизнь; может, и жизнь ей испортила. Десятилетия спустя она справедливо упрекала меня за доминантный характер и насмешки. Склад ума у нее оказался совсем не академический, а другого я принять не мог. Рассудком понимал, что неправ, но суеверие, очень советское (и, может быть, еврейское) брало верх. Страдали оба; даже трое; Таня, спасибо ей, смягчала муки, брала сторону Лизы.
С первых проблесков мысли Лиза вела двойную жизнь — и как! Ни разу нас не выдала. Чувствовала, что в семье имеется нечто, что за пределами семьи не должно отзываться. Соседский мальчик Витя Ривин, как и Лиза, полукровка, был совершенно советским. Как-то дети возились посреди нашей комнаты, а мы с запальчивостью о чем-то говорили с гостями (у нас не переводившимися). Вдруг, в паузе, Витя спрашивает Лизу подозрительно:
— А ты за кого: за красных или за белых?
Мы замерли в ожидании, а Лиза спокойно ответила:
— Что ты, Витя, я же девочка, меня политика не интересует.
Конечно, и мы с Таней были совершенно аполитичны. Потом, в эмиграции, в нормальных странах, это проступило со всею отчетливостью, да и в Ленинграде было ясно. Однако ж в советском раю от политики не спрячешься. Лизина учительница (классная дама) сразу почувствовала в ребенке и в родителях что-то чужое, в чем и фамилия ей помогла. Лизу невзлюбила. Наказывала ее за медлительность (например, закрывала в классе во время большой перемены). Не улучшило дела и первое родительское собрание, на котором выступала учительница английского. Та, добрая душа, не чая дурного, начала свою речь со слов, возмутивших честную антисемитку:
— Хорошо, когда в классе есть такие звездочки, как Лиза Колкер и Аня Шмерлинг!
Оценки по другим предметам Лизе занижались. Один раз, потеряв терпение, я пожаловался директрисе, сказал, что буду «писать в район». Классная дама испугалась, оценки подскочили, но ненадолго; наша антисоветская сущность должна была проступить — и в свой черед проступила. Принцип «со всеми держать себя одинаково» вывел нас на чистую воду. Позвали мы как-то в гости родителей лизиной одноклассницы, мама которой состояла в родительском комитете. В разговоре я упомянул, что еду в Москву — сверять тексты Ходасевича (к Котрелёву). Эти двое ахнули: ради сверки ехать в Москву! А кто такой Ходасевич? Разговор пошел в привычную сторону. Осторожности я не придерживался. Честные советские интеллигенты всё больше пялили на меня глаза, пропасть между нами разверзалась на глазах. Перешло на политику. Выяснилось невероятное: они всерьез думали, что Бельгия (уж не помню, как она всплыла) — не самостоятельное государство, а такой же придаток США, как Болгария — придаток СССР. Я взорвался, и Лизе стало в школе еще труднее. Когда дошло до приема в пионеры, в первую партию она не попала, попала во вторую, с троечниками и двоечниками, и сильно расстроилась. В ответ на танины утешения сказала:
— Да, мама, я всё понимаю, но ты же знаешь, как тяжело быть белой вороной!
К четвертому классу, ко времени, когда мы, наконец, добились выездных виз, в школе давно уже догадывались, кто мы такие. Ребенку досталось. Целый скандал разразился вокруг пустяка. Лиза научилась делать из бумаги прыгающих лягушек. Весь класс перенял искусство. Лягушки начали выпрыгивать в окна, а под окнами шла «правительственная трасса» — улица Воинова как раз вела к Смольному. Честнее было бы называть ее партийной трассой, но в школе знали, кто правит. Даже по такому пустяку меня вызывала директриса.
…Худенькая была девочка; тощая и высокая, а характером добрая. Всех жалела. В Крыму, в Оленёвке, в лимане ловили креветок. Крупных забирали, а мелких выбрасывали на берегу — умирать не своей смертью. Мимо этих страдающих ракообразных не удавалось пройти без слез; приходилось всей компанией спасать бедных приветок, кидать их обратно в воду. Но разве всех спасешь?
В очереди за цыплятами (цветом несколько синими; у нас они назывались синекуры) она, еще дошкольница, тоже слезу пустила:
— Какие люди жестокие! У них вся жизнь была впереди.
И с годами не стала злой. Гордость и вспыльчивость тоже удержала.
Ближайшим от дома клочком зелени был Летний сад; в нем я выгуливал Лизу в коляске в ее первые месяцы; в нем, когда подросла, Лиза играла — у оградки «дедушки Крылова», под сенью чахлых статуй. По вечерам, когда Летний сад закрывали, можно было прогуляться по набережной Фонтанки, а Летний сад получить вприглядку. Туда мы как-то и отправились втроем. Возвращались в сумерки. На углу Чайковского и Фурманова видим: бежит, поджав хвост, овчаристая собака с обрывком веревки на шее. Таня собак обожала всю жизнь, «выросла среди собак», по ее словам; о Лизе — и говорить нечего; кто в пять лет не любит собак (и стихи)?
— Пойдем, я тебя покормлю, — сказала Таня собаке, и та пошла за нами, опасливо, держась чуть сзади. Поев, уходить не захотела, забилась под стол. Веревка на ее шее оказалась не ошейником, а натуральной петлей: видно, беднягу отлавливали. Выгнать ее не представлялось возможным. На другой день Таня не без труда уговорила соседей, потребовавших, чтоб мы собаку держали в комнате. Собака прижилась. Таня ее зарегистрировала, получила удостоверение, в котором значилось: «Колкер Т. Г., сука серая, б/п» (не подумайте друного: беспородная). Сперва трусливая и забитая, собака понемногу ожила — и как-то само собою вышло, что она в явочном порядке захватила единственное в нашей лачуге кресло, впрочем, жесткое, низкое и неудобное, конструкцией напоминавшее шезлонг. Под подстилкой в этом кресле хранила украденные со стола черствые корки; с этим ничего нельзя было поделать: память о голоде перешибала в ней всё, вообще же собака была умная и ласковая. Чего только Лиза с нею ни проделавала!
— Прекрати навязывать собаке бантики на уши! Ей же больно! Мутти, пошла на место!
Собака слушалась, уходила из лизиного угла, забиралась в свое кресло, — а стоило отвернуться, вылезала из него и украдкой опять подбиралась к Лизе — чтоб та продолжала наряжать и тискать ее.
Занятно, что имя Лиза казалось в начале 1970-х не совсем приемлемым. Все недоумевали, когда мы выбрали его. Мать фантазировала: может, с годами она пожелает называть себя Элизой (!). Отец некоторое время называл ее Ветой. Нашлась доброжелательница, которая спросила:
— А не обидится на вас девочка, когда вырастет?
— Отчего же ей обижаться?
— А ее будут звать Лиза-подлиза…
Нет, подлизой она не выросла. Имя свое любила, Элишевой в Израиле стать не пожелала… Имя мы вот как выбирали: одно должно было быть очень русским, но одновременно — и всемирным, а уж на заднем плане — библейским, еврейским.
Первый отказ мы получили 30 ноября 1980 года. Заново ходатайствовать о выезде можно было не раньше чем через полгода — и при условии предъявления свежего вызова из Израиля. Летние месяцы в этом смысле пропали, Лизу было решено везти в Крым (в Оленёвку), чтобы хоть как-то подлечить ее нейродермит. К осени мы получили вызов, собрались с духом, собрали ворох бессмысленных советских бумаг — и подали. Непередаваемой мукой было для меня явиться за характеристикой к котельному боссу. Помню угрюмую физиономию начальника участка Коломийцева, неприязненные лица бумажных женщин из его окружения. Всенародное отвращение к Израилю, неизъяснимое, понятное только изнутри пошлой советской действительности; отвращение, воспитанное двуличной властью, подхваченное зоологическим антисемитизмом низов, — переносилось на отщепенца с дивной непосредственностью. Мучительнее всего было то, что мой постыдный шаг ставил под удар добрую Тамару Васильевну Голубеву, взявшую меня на работу. Она, человек религиозный, хуже ко мне относиться не стала, но не только для верхнего начальства Теплоэнерго-3 (не понимавшего, что мне в ходатайстве непременно откажут), а и для нее тоже — мое место словно бы сделалось вакантным, а я — временным. От возникшего напряжения жизнь моя не облегчилась. Как только мы с Таней подали документы в ОВИР, я стал подыскивать новое место; естественно, тоже при котлах. Где еще?
Поздней осенью 1981 года оказался я кочегаром на так называемой Уткиной Даче: в котельной, отапливавшей склад и гараж киномеханического завода (ЛКМЗ) по адресу Уткин проспект 2а, в промышленном районе, при слиянии рек Охты и Оккервиля. Когда-то тут было имение, барский дом с широким полукругом конюшни. Фонтан перед домом заглох. Дом в советское время ни разу не ремонтировался, страшно обветшал. Сколько квартир в нем нагородили? Конюшня, тоже облупившаяся, использовалась по назначению: сделалась гаражом. Котельная помещалась в том конце ее дуги, который смотрел на Охту.
Кочегарили свои: часовщики Иванов с Останиным и Саша Кобак, к ним добавился я, а пятым (на деле первым) был настоящий рабочий, молодой непьющий человек из простых по имени Гена Прохоров. Выходили мы на смену раз в пять суток. Чем не свобода? Одно огорчало: хоть часовщики и приняли меня в свою компанию, между ними и мною давно возникло и всё время нарастало взаимное отталкивание. Они пеклись о будущем России; я рвал с нею, собирался уезжать. Они были православные или, по меньшей мере, с православными; я всеми силами старался стать евреем. Понятно, что я был чужой среди своих.
Каменный дом имения построен в 1790 году, не то Львовым, не то Кваренги; скорее — первым. В допетровское время участок принадлежал шведскому полковнику Оккервилю; отсюда название реки. Невзначай всплывает тот неудобный патриотам факт, что местные «воды» при Петре отнюдь не были «пустынными». Ниеншанц (крепость) и Ниенштадт (город) построены шведами в 1611 году при впадении Охты в Неву, как раз в том первом, считая от устья Невы, месте, где уже не случается наводнений. В квасной историографии невские земли и воды были возвращены России успехами русского оружия; на деле они никогда русскими не бывали. Киевской Руси не принадлежали потому, что Новгород, даже подчинившись Киеву, Русью никогда себя не называл и не считал, свою автономию лелеял; а у Московии после 1478 года руки до невских берегов не дотягивались… Название же Уткина Дача пошло от госпожи Уткиной, в девичестве Шаховской, купившей имение в 1829 году.
На Уткиной Даче всё имелось для жизни: упругая лежанка, обтянутая рваным зеленым дерматином, кресло из того же гарнитура, сносный стол для машинки, чайник. Не слишком портил дело чердак, где иногда ночевал ненавязчивый бомж Гриша. Уединение способствовало работе. На Адмиралтейской набережной каждая из трех котельных служила своего рода клубом, что и понятно: центр города; всегда кто-нибудь заходил, по делу или со сплетнями, да и начальство наведывалось с проверками. На Уткин проспект, на заводскую окраину, люди без нужды не ехали. Проверками тоже нам не слишком докучали. Появлялся изредка Владимир Ильич Сергеев, наш прямой начальник, заместитель главного инженера киномеханического завода, молодой человек, всем нам (по возрасту старшим) смело говоривший ты. У него прямо на физиономии было написано слово коррупция, он, чудилось, словно бы в заговоре с нами состоял (потом этот заговор и эта коррупция выразились прямо в деньгах, которые он с нас отчислял). Приходили раз в год и представители Промгаза, которым экзамен приходилось сдавать, то есть «ставить полбанки» с закуской (что мастерски проделывал Кобак). В остальном — это был отшельничий скит. Сиди и пиши. Я и писал.
Но всё же люди появлялись. Митя Волчек, филологический юноша, затеявший машинописный журнал Молчание, пришел ко мне 4 января 1983 года с рекомендацией Кобака или Иванова именно сюда, на Уткину Дачу. Пришел за разрешением перепечатать мою Айдесскую прохладу. Вот, подумал я, польщенный, племя младое, незнакомое, которое перенимает из моих слабеющих рук наше дело (для меня состоявшее целиком не в политике, а в эстетике). Вот наше будущее! Не зря мы хранили гордое терпенье во глубине котельных руд. Потом выяснилось, что в эстетическом отношении Волчек — самый что ни на есть враг, а вовсе не друг. Его Ходасевич только тем привлекал, что был в ту пору поэтом запретным. Догадался я об этом годы спустя, когда митины стихи увидел (кто же стихов-то не писал?); а в 1983-84 годах продолжал с ним общаться, летом ездил к нему с ночевкой на дачу в Солнечное (с 1 на 2 августа 1983 года), зачем-то был у него дома в молодежной компании, где оказался совершенно лишним. Потом, после моего отъезда, Митя писал мне письма за границу — с рассказами о новостях официальной и полуподпольной литературы. Кое-что из этих новостей я в 1984-85 годах пересказал на волнах радиостанции Свобода — и тем надоумил Митю, можно сказать, поприще ему указал: он сам стал делать репортажи для Свободы, а с наступлением воли сделался штатным сотрудником этой радиостанции. Незадолго до его поступления на Свободу, в 1990 году, на русской службе Би-Би-Си в Лондоне появился какой-то его знакомый, с приветом от Мити — и советом: мол, не следует спешить с возвращением в Россию. От этих слов я рот открыл.С возвращением? Вернуться из Англии — в Россию? Полет митиной мысли (или мысли этого его герольда) ошеломил меня. Неужто страна, где я десять последних лет прожил, как пленный в неприятельском лагере, переменилась в одночасье? Неужто я уезжал, чтоб вернуться? Молодой человек, не хлебнувший горя, не понимал чего-то важного. Эстетические расхождения, как это всегда и бывает, еще резче проступали через расхождения этические.
Новый 1982 год я встречал на дежурстве; приехала Таня с подружкой Люсей Степановой, но сразу после полуночи обе ретировались. Тане в котельной нечем было дышать (а я и легкого недомогания не испытывал от дурного воздуха). Люсе в моем скиту было неуютно.
Напряжение в городе росло. КГБ «копал на культурников»: на Общество по изучению еврейской культуры. Альманах ЛЕА в такой степени находился под ударом, что Яша Городецкий, которого несколько часов продержали в Большом доме (13 декабря 1982 года), прямо советовал мне готовиться к аресту («первым возьмут меня, вторым тебя»). Арестовали и посадили потом двух других: Алека Зеличонка и Володю Лифшица, самых деятельных и умных, самых последовательных в еврейском отказе.
Невничал и Мартынов; 11 декабря 1982 года он приехал ко мне на Уткину Дачу с Варей — сообщить об обыске у поэта Владимира Эрля (к еврейским делам непричастного); приехал с книгами — жечь книги. Не без некоторых трудностей что-то из привезенной им опасной литературы мы, действительно, сожгли на плиточном полу котельной, под пламенем запальника. Плитки, вовсе не огнеупорные, лопались. Приходилось собирать золу по всей котельной.
Был и один в высшей степени странный визит: приехала ко мне на Уткину Дачу Галя Боговарова, сотрудница отдела экономики СевНИИГиМа. С нею мы в 1970-х сперва оба состояли аспирантами в этом квадратно-гнездовом учреждении, потом — работали (если это можно назвать работой) в упомянутом отделе и (на минуту было и такое) в волейбол за отдел играли — то есть, конечно, я один играл за всю команду. Была ли Галя прямой доносчицей? Отъездных надежд я от нее в СевНИИГиМе не скрывал, а мой уход в кочегарки всеми коллегами, даже непосвященными, был верно истолкован как начало борьбы за выезд. Приехала Галя со странными словами: мол, выехать по еврейскому приглашению не удается, сам видишь (действительно, выезд всё сокращался, в отказе сидели многие тысячи), но есть другой путь: люди отправляются в круиз по Черному и Средиземному морю, высаживаются в Стамбуле — и тю-тю. Она будто бы для себя решила встать на этот путь (а прежде эмигрировать не собиралась). Всё это шло в русле общей нашей беседы за жизнь. Принцип «со всеми — одинаково» и моё назывное литературное толстовство мешали мне обрывать общение с людьми неумными и неинтересными; мое время не пересчитывалось в деньги, казалось, что его сколько угодно, — вот и не прогнал я ее. Под конец этой беседы ни о чем Галя вдруг сказала, что если б я сейчас надумал вернуться в СевНИИГиМ, то меня бы взяли назад. Лишь закрыв за нею дверь на тяжелый амбарный крюк, я сообразил, что это предложение и было целью ее визита: что Галю — послали, послал, может быть, добрый и хитрый Игорь Дмитриевич Никитин, а его надоумили другие доброжелатели, партийные начальники. Странно, ей-богу! Стоило ли из-за меня хоть палец о палец ударить? Кто и что мог подумать на мой счет? И где? Ответа нет. Но где бы и что бы ни подумали, а там просчитались. Я уже вкусил свободы в двух ее ипостасях: свободы от советской лямки и свободы, проистекавшей от сознания моего нравственного превосходства над всем их миром, пустым и обреченным. Ни на каких условиях не вернулся бы я не то что в затхлый СевНИИГиМ, которого всегда стыдился, а вообще «в советскую науку», к советской жизни. Социальное падение, открытое противостояние пошлому режиму — окрыляли. Пусть в несопоставимо меньшей степени (в меру моего человеческого масштаба), а всё же я испытывал именно те чувства, что Иеремия в яме, Лунин на цепи.
В Уткином коммунальном доме напротив конюшни находилась мастерская живописца или скульптора. Один раз художник явился ко мне, тоже с разговорами за жизнь; а между делом предложил на прочтение что-то из Бродского. Я с благодарностью отклонил предложение; сказал, что всё давно читано. Гость мне не понравился, имени его я не запомнил.
Все эти годы моя мать непрерывно болела, точнее — умирала. Мне, раз в три дня, в очередь с сестрой и племянником, приходилось ездить к ней домой и в больницы, сидеть при ней. Дома, по хозяйству и с Лизой, помогала теща Александра Александровна, приезжавшая, хоть и не ежедневно, с Ланского шоссе (а мы с Таней ездили раз в неделю к ней на Ланское мыться; у нас в коммуналке ванная была без горячей воды). Таня тоже почти всё время болела. Несколько раз теряла сознание и падала, в том числе и на улице. Мучили ее, главным образом, боли в позвоночнике и перепады давления; по крайней мере дважды случался гипертонический криз; ее подолгу не отпускали головные боли; иной раз она есть не могла; даже от ложки мёда ее тошнило. Я научился делать уколы: колол ее каким-то румалоном и баралгином.
На Уткиной Даче, 10 ноября 1982 года, был мною закончен двухтомник Ходасевича: солидная работа, с портретами, которые кто только мне не помогал найти и переснять. В Москве в этот день уже знали о смерти Брежнева, а по радио объявили только на следующее утро, в 11:00. Андропов сел на трон 12 ноября. Говорили, была минута крайнего смятения в верхах: милиции раздали автоматы, Москву полностью блокировали, ни въезда, ни выезда, стянули войска. Слушать это было невероятно смешно. Кого они боялись? Но ведь это и всегда так было, с момента прихода большевиков к власти: они всегда боялись, особенно в первые годы, со дня на день ждали взрыва народного гнева, расплаты за узурпацию и злодеяния. Честные народники! Они верили в народ, думали, что народ — реальность. Своего собственного мифа, своей тени боялись… В 1982 году мне, человеку совершенно аполитичному, в голову не приходило, что там, в Москве, автоматы очень могли пригодиться — и не против «народа». Могла возникнуть бойня между фракциями, домогавшимися власти. Делить-то было что. Путинская Москва обнажила эту сторону дела даже перед теми, кто, подобно мне, никогда не интересовался механикой власти.
Тут, при слиянии рек, я заново взялся за Ходасевича: за пересмотр уже сделанного для часовщиков, которые и выпустили в 1983 году мое комментированное собрание его стихов в форме машинописного двухтомника — вторым изданием. Останин подбивал меня приняться теперь за прозу Ходасевича. Как и прочие, он не понимал моих побудительных мотивов: не видел, что мой нравственный долг перед поэтом и моя собственная потребность говорить о Ходасевиче исчерпывались разговором о его стихах.
Важнейший мой дневник пропал в ходе описанной экспедиции за янтарем в сентябре 1982 года. Два других блокнота, с записями до самого дня эмиграции в июне 1984 года, сохранились. Перелистываю их с оторопью: какая сборная солянка! Чего только не происходило — и всё шло в одном ценностном ряду, как всегда и бывает у людей религиозных… Да-да; ни христианином я не стал, ни евреем (как ни пытался) сделаться не сумел, к тому же еврейское миропонимание вовсе и не требует веры в Бога, не говоря уже о любви к нему. Моя религиозность была подсознательной, подспудной. Противостояние режиму выросло в нравственное служение. Кому? Не будущей России, в которую я не верил; не русской литературе даже, разве что — отчасти. В литературу, положим, я еще верил тогда, но видел, и притом с сочувствием видел, как ей непросто принять в свои материнские объятия человека с такой неблагозвучной фамилией, к тому же категорически не желающего креститься. Животный, зоологический антисемитизм всех и каждого вокруг не оставлял мне воздуха и не обещал его в исторически обозримом будущем. Выходило, что мое нравственное служение адресовалось всё-таки Богу. Кто еще поймет мою уязвленную, униженную, страждущую душу?
Ожидание обыска, которого так и не случилось, привело меня к мысли раздать самое важное (рукописи, машинку) в другие руки. Что-то было отнесено давней литературной приятельнице Гале Лурье, ближайшей соседке, в ее нищую коммуналку по адресу улица Чайковского 2/7, квартира 360. Она, спасибо ей, согласилась взять, хотя ей было не до литературы, тем более подпольной: ее муж Виктор тяжело болел; в сущности, умирал. Ему я был обязан: еще в конце 1980 года он устроил меня временно в настоящую котельную, работавшую на мазуте. Котельная принадлежала дизельному институту (ЦНИДИ). Мое кочегарское удостоверение, собственно говоря, не давало мне права работать на мазуте, но людей не хватало, и меня взяли. Платили там по-настоящему, так, что едва верилось. В месяц можно было заработать до трехсот рублей. Работа была тяжелая и грязная. Хуже того: находилась котельная ЦНИДИ у чорта на куличках: за станцией метро Звездная, на Московском шоссе 25. Но игра стоила свеч. Два или три месяца я выдержал там. Работал, помнится, плохо, всё «упускал давление» в котле. Спасало то, что дежурили по двое. Мой напарник из простых всё не хотел верить, что я (он знал мою фамилию) совсем не играю в шахматы. Сам он играл; заставил-таки меня сыграть с ним — и изумился легкости своей победы. Двадцатым ноября 1980 года помечен у меня стихотворный набросок, дающий представление о том, в какую мучительную минуту Виктор протянул мне руку:
|
Ты права: я добился немалого: Оглянись, посмотри на меня — И найдешь неудачника вялого, Потерявшего гриву коня; Опустившегося, бесконтрольную Жизнь ведущего, день ото дня Больше; вечности давшего вольную, — Оглянись, ты увидишь меня, Все иллюзии похоронившего, Распростертого во временах, В кочегарке, за бойлером, нищего, В провонявших мазутом штанах… — Это он ли, ты спросишь с сомнением, — Там, на юге, где плещет волна, Давней юности милым видением Был, обрывком веселого сна? Не подумай, я вовсе не сетую И себя не жалею ничуть: Не грущу — и тебе не советую. Я от скуки насмешкой лечусь. Скучно Мойрам. Старух не мешало бы Для острастки слегка подразнить — И, глядишь, от насмешливой жалобы Побежит оживленнее нить. |
Даже в начале 1980-х, в период небывалой в моей жизни сумятицы и черезполосицы, я всё еще не вовсе бросил играть в волейбол. Конечно, «настоящий» волейбол в Спартаке, в Политехническом, в Экране (клубе телевизионного института) остался далеко позади. Первый разряд я получил в юношеской команде Спартака в 14 лет, значок кандидата в мастера — мог получить в студенческие годы, да не стал и хлопотать: видно было уже, что я на выходе (кость тонка, рост — всего 180 см — не волейбольный); не собирать же регалии ради регалий? Когда мне перевалило за тридцать, я играл уже только «на подхвате»: от случая к случаю, в какой-нибудь захудалой заводской или институтской команде, где своих не хватало. (Новый читатель, пожалуй, спросит, сколько мне за это платили.) Даже в таких командах, случалось, я уже бывал не лучшим. В период Уткиной Дачи, на четвертом десятке, меня пристроили к команде какого-то Электроаппарата. Тренировались на Васильевском, в спортзале дома культуры имени Кирова, памятном мне еще по 1963 году, когда я там со Спартаком играл и тренировался. На тренировки я ходил редко. Команда выступала в какой-то низкой подгруппе городского первенства… Печальный закат! Помню одну игру в 1982 или 1983 году, где мне пришлось просить замены из-за болей в коленях, преследовавших меня годами, а начавшихся очень рано, еще в школьные годы, да так и не диагностированных толком. Тренер уламывал меня: «Может, всё же выйдешь на поле?», но я не смог.
Машинку, драгоценную эрику, в мечтах о которой прошла моя нищая юность, я относил на хранение в несколько мест, среди прочих — на улицу Петра Лаврова, в мастерскую Алены Чехановец, художницы.
— А почем вы знаете, что я вас не выдам? — спросила она.
Вопрос был правильный. Мы были знакомы без году неделю, меня к ней незадолго перед тем привела отказница Ира Мостовая (много лет спустя по уши ушедшая в хасидизм в Бостоне). К тому же Алена, театральный декоратор, была членом союза художников, человеком официальным. Но я чувствовал, что не выдаст, да и принес не надолго. Адреса главных своих сокровищ я довольно часто менял, перетаскивал бумаги и машинку с места на место. У Алены они не задержались. Какое-то время хранились у Иры Зубер, математика из АФИ; и у других.
Конечно, Алена была чужая: принадлежала истеблишменту, касте благополучных; ее отец, кинодраматург Марк Соломонович Еленин (псевдоним в честь дочери), состоял в союзе писателей и не бедствовал. Мастерская Алены была двух- или трехкомнатной отдельной квартирой, пусть небольшой и в мансарде, но квартирой, — это в советское-то время, в Ленинграде с его страшным жилищным голодом. Почему я доверялся чужой? Потому что антисемитизм сплачивает представителей самых разных слоев и интересов. В страшные сталинские времена, когда общество было уничтожено, когда отец доносил на сына, а сын на отца, — среди осовеченных евреев этот ужас проявлялся чуть меньше, чем среди прочих. Семья значила для них больше, не позволяла окончательно себя одурачить. Из подсознательной, стихийной солидарности евреев выросло сперва сомнение и недоумение, а затем и сопротивление. Не могла меня выдать Алена — и не выдала.
Может, и такой эпизод сыграл свою роль, подкрепил мою веру в Алену. Однажды я застал у нее в мастерской Фриду Кацас, редакторшу издательства Советский писатель, про которую слышал лестные отзывы в те годы, когда сам в этом издательстве надеялся книжку стихов напечатать. Застал я Фриду в расстроенных чувствах, если не в отчаянье. Она ходила из угла в угол и твердила в каком-то исступлении:
— В этой стране невозможно больше жить!
Подробности ее очень понятной беды ускользнули из моей памяти — потому что и вся моя жизнь была насыщена подробностями подобного рода; антисемитизм можно было из воздуха ложками есть. Зато облик Фриды, увиденной в тот день, стоит перед моими глазами. Непостижимым образом она показалась мне в ту минуту похожей на Фаню Каплан в раннем советском фильме, кажется, еще немом… Десятилетия спустя я узнал, что никуда в итоге Фрида не уехала, так и осталась жрицей при алтаре слинявшей русской словесности.
Удачливая Алена была моложе меня несколькими годами, в разводе, хороша собою на тогдашний расхожий вкус — и, кажется, не слишком удачлива в любви, может быть, из-за чрезмерной свободы в обращении с этой материей.
— Со мной всегда норовят познакомиться не те, — пожаловалась она мне при первой или второй встрече. Что я — «не тот», было ясно сразу. «У вас — семья», вздохнула Алена, сделав нарочитое ударение на первом слоге. В качестве примера «не тех» рассказала забавное.
— Вообразите: недавно в аэропорту (я с юга возвращалась) подходит ко мне не шибко молодой человек, смуглый и бровастый, смотрит на меня этак заинтересованно и говорит: «А вот вы спросите, как меня зовут». Ну, я и спрашиваю. А он торжественно отвечает: «Абрам!» Куда тут деваться?
При моем следующем визите Абрам был уже в мастерской, и Алена именовала его Котиком. Я Абраму понравился. Он, едва подружившись с Аленой, начал ее ревновать ко всем встречным и поперечным, но увидев меня, успокоился, о чем прямо в присутствии Алены мне и сказал.
Местом последней таниной работы в России была, странно вымолвить, библиотека Дома писателя — в двух шагах от нашей трущобы, в Шереметевском особняке, на улице Воинова 18. В библитеке проходил переучет фонда, требовались для этого временные сотрудники. Каким чудом Таня там оказалась? Может, и не без протекции — или, во всяком случае, с чьей-то подачи. В кромешные годы нищеты и бесправия, во второй половине 1970-х, — не было у нас ни малейшей протекции, никакой поддержки. Опереться было совершенно не на кого. Я не лукавил, говоря, что мы органически не умели пользоваться институтом блата, подстилавшим всю без изъятья советскую действительность. Но некоторое подобие блата всё-таки забрезжило в нашей жизни, и как раз тогда, когда мы прямо противопоставили себя режиму. Характернейший парадокс! Стоит отвернуться от прилавка, как Фортуна сбавляет цену.
А вот другой парадокс, тоже в духе времени. Даже — два парадокса разом. Отапливал Дом писателя — писатель; кто же еще? В кочегарке Шереметевского особняка сидел стихотворец Боря Лихтенфельд, в 1970-е появлявшийся у Кушнера на Большевичке, вообще совершенно свой в полуподпольной литературной среде. Его, среди прочих, вызывали или навещали сотрудники КГБ с расспросами обо мне: о моем Ходасевиче, о моих стихах в парижском Континенте. И чуть ли не в то же самое время писательскаая библиотека в лице ее заведующей просила меня через Таню составить personalia по Ходасевичу, что я, естественно, и сделал, притом совершенно бесплатно. Прав был ГэВэ Романов, всемогущий в ту пору партийный сатрап из Смольного, говоривший ленинградским кэгэбешникам: «У вас по столам мыши бегают!»
За другую окололитературную акцию я деньги получил: часть моего личного архива, переписку с поэтом Межировым, редактором Юности Полевым (автором Повети о настоящем человеке) и еще что-то в этом роде, я продал в Ленинградский государственный архив литературы и искусства (ЛГАЛИ). Там штатным сотрудником сидел другой стихотворец, Эдуард Шнейдерман, авангардист, из старших в литературном полуподполье (как автор он существовал только в самиздате); тот самый, в компании с которым я участвовал в составлении машинописной антологии Острова. Шнейдерман меня и надоумил. Получил я за свои бумаги что-то около 95 рублей, большие деньги в нашем тогдашнем бюджете. Получил, вгляделся в аббревиатуру ЛГАЛИ — и ахнул. Тогда же явился мне на ум каламбур, запомнившийся многим. Я говорил: город, в котором я вырос, — царство лжи: нем университет называется ЛГУ, а архив — ЛГАЛИ.
А вот другой пример протекции, прямой и непосредственной, единственной в своей чистоте за всю нашу тамошнюю жизнь. Моя дружба с Александром Кушнером существовала по схеме: «то потухнет, то погаснет», но в Тане поэт души не чаял, и она время от времени нас мирила. В декабре 1983 года Таня поинтересовалась у Кушнера, нельзя ли устроить ей и Лизе путевку в писательский дом творчества в Комарове. Тане случалось бывать там в гостях у других, не совсем прямо к писательству относящихся людей, например, у Майи, вдовы верлибриста Геннадия Алексеева. Кушнер с готовностью откликнулся, назвал Таню своей родственрицей, и в январе 1984 года, на время школьных каникул, она с Лизой отправилась в Комарово. Платили за путевку, не подумайте лишнего, мы сами. Незачем говорить, что это был подарок судьбы: кормежка, комфорт, природа; публика вокруг чистая, всё писатели, сытые советские интеллигенты. Катались на финских санях в сторону залива. Наслушались писательских сплетен, а попутно и рассказов о том, как какие-то безумцы (не писатели) пытались по льду в Финляндию уйти (безумцы еще и потому, что финны в ту пору беглецов выдавали). Во время прогулок пристраивалась к Лизе с Таней лизина ровесница из приличной семьи, писательская внучка, всё время напевавшая премилую тогдашнюю песню о доблести пограничников:
|
Стой, кто идёт! Стой, кто идет! Никто не проскочит, никто не пройдет! |
Двадцатого января 1983 года получили мы очередной отказ по неблизости родства, четвертый по счету. Выходило, что мы еще нужны России. Коротенькое сочинение под таким названием — Мы еще нужны России, — по жанру — жалобу в пространство (потому что сунуть его было решительно некуда), я написал еще 18 июля 1982 года, после трех отказов. В качестве формулировки прежде значилось другое: «противоречит интересам государства». Вот выдержка из этого сочинения:
Посмотрим краем глаза, много ли выиграло Государство, удерживающее нас? Оказавшись в рядах внутренних эмигрантов (только так и можно определить людей, годами добивающихся права на эмиграцию), мы сделались социально активны. Читатель помнит, что это не поощряется. Лишившись возможности заниматься наукой, я все свои силы отдал литературе. Прежде моя литературная деятельность была достоянием узкого кружка моих друзей — внезапно она приобрела общественный резонанс. Мои стихи, статьи и книги расходятся в машинописных копиях и печатаются за рубежом. В сотый раз повторяя одну и ту же ошибку, власти сами создают литературное имя тому, кто вовсе не был в нем заинтересован. Они создают мне также и «диссидентское имя», «диссидентский стаж», ибо пока я нахожусь под юрисдикцией государства, открыто объявившего меня гражданином второго сорта, я не могу не требовать справедливости, не протестовать, хотя бы и с риском для жизни.
За истекшие полтора года я успел написать очень много, но вряд ли Государство удерживает меня за мои литературные труды. С другой стороны, оно по-прежнему не в состоянии трудоустроить меня по специальности и в соответствии с полученным мною образованием. В настоящее время я безработный [это было не совсем точно, хоть и не далеко от истины]. Не работает и моя жена, хотя с нее, в нарушение всех норм и правил, «сняли инвалидность», т.е. пенсию (а не болезнь). Государство не хочет нас отпустить — и не хочет дать нам средств к существованию. Наши профессиональные качества, наши болезни и наши (им же декларированные) права для него не важны. Начинает казаться, что евреи нужны ему лишь как сырье. А такое, между прочим, уже случалось в текущем столетии… Суммируя ту пользу, которую мы (и тысячи нам подобных) принесли Государству за время сидения в отказе, необходимо признать, что уже сегодняшнее наше служение Интересам Государства сомнительно. Что же говорить о завтрашнем? Впрочем, это запретная тема. Государство, которое так в нас нуждается, живет сиюминутными интересами и не может без ужаса смотреть в свой завтрашний день. Валтасаров пир продолжается.
После четвертого по счету отказа мы пришли к выводу, что не видать нам земли обетованной — никогда или долго не видать. Решили попытаться улучшить наши жилищные условия на внеисторической родине. Я записался на прием к какому-то жилищному начальнику в нашем микрорайоне. Дождался приема, объяснил начальнику, что живем мы втроем в одной комнате, ребенок уже подрос, жена — инвалид, а я ученый, кандидат наук, мне приходится работать дома; нельзя ли хоть две комнаты в коммуналке получить? Излагаю всё это и чувствую: меня не слышат. Поднимаю глаза и вижу перед собою стоеросовое советское рыло с пустыми глазами, чудище обло, стозевно. «Нет, — лайяй чудище, — по закону жилья у вас достаточно: 28 квадратных метров. Не положено». Я опять принимаюсь мямлить своё, а чудище — молчит, не лайяй больше. Молчит. Полмесяца я ждал приёма, больше часу просидел под начальственной дверью — и не получил от чудища больше не единого слова, ни, прости господи, сочувственного взгляда. Даже слов о том, что, мол, есть другие, кому хуже, не услышал, — а ведь, ей-богу, я, толстовец, и такими бы словами в тот момент удовольствовался, столь для меня очевидно было моё ничтожество перед дубовым величием государства. Глупость моя простиралась до невероятного: я умудрился ввернуть в свой плач слова о том, что мы с Таней оба — ленинградцы, чем, видно, доставил минуту одновременно досады и торжества стоеросовому величию, по своему выговору — явно не местного происхождения. Приём и трех минут не длился. Выходя, я вдруг сообразил, что ведь чудище, конечно, ждало от меня поощрения или хоть намека, что «мы в долгу не останемся». Должно быть, только так подобные дела там и делались. И не просто нужно было поощрить чудище, а через верных людей; не самому же мне ему взятку пихать… или самому? Впрочем, гадать тут нечего. Не освоил я волшебной палочки советской жизни. Кюстина плохо прочел, а он ведь прямо учит, что в странах беззакония (речь, понятно, и шла у него как раз о России) коррупция — единственное, что облегчает гнет. В том же духе и лорд Актон высказался (и в связи с той же страной), но уж о нем я и вовсе в ту пору не слыхивал… Интересно, как бы я вел себя, будь у нас свободные деньги? Не потому ли не догадывался предложить взятку, что дать было нечего?
Последний раз советская волшебная палочка соткалась из воздуха и тут же растаяла в июне 1984 года. У нас уже было разрешение на выезд; мы собирались. Кто-то из доброжелателей посоветовал: пусть мебели у вас и нет, а всё лучше прихватить с собою побольше вещей; хоть одежду да сковородки возьмите, там на первых порах каждая копейка будет на счету, — и для этого «закажите ящик». Была такая услуга: уезжавшие могли заказать ящик для дальнего багажа, а то и несколько ящиков, даже — много ящиков, были бы деньги. Везли, в основном, мебель. Ладно. Мы с Таней пошли в соответствующую контору на Лиговке. Приходим и говорим:
— Мы уезжаем в Израиль. Нельзя ли ящик заказать?
Нам отвечают вежливо, спрашивают предупредительно:
— А когда у вас отъезд?
— Через две недели.
— Ну, — слышим разочарованный возглас, — за две недели нам никак не успеть! У нас ведь очередь, сами понимаете.
Как не понять! Очередь была символом места и времени. В крематорий — и то была очередь. Мы поверили, хоть и знали, что выезд практически закрыт.
— Как жаль… — говорим в ответ, поворачиваемся и уходим. А когда, открывая дверь, Таня ненароком оглянулась, то увидела странное: вежливый человек смотрел нам вслед, выпучив глаза и раскрыв рот. Должно быть, за всю свою трудовую жизнь такого не встречал. Ни на одно мгновение не пришло мне в голову во время разговора, что он ждет взятки…
Последний… нет, всё-таки предпоследний всплеск жилищной мечты привел меня 15 января 1983 года в юридическую консультацию где-то в районе Пяти углов — к Елене Григорьевне Барихновской, которую я знал понаслышке не как адвоката, а как поэтессу самиздата (она и в Острова попала). Денег, спасибо ей, Барихновская с меня не взяла, но и мечту срезала под корень: подтвердила, что прав у нас никаких нет. В первый и единственный раз в жизни был я в стряпчем заведении. Оказалось, каждый стряпчий сидит в отдельной крохотной конуре без окон, прямо-таки в будке — и ждет. Странная работа! Я оглянулся на свое прошлое, вспомнил все свои рабочие места, всех и злых и добрых начальников, сравнил с этим — и Барихновской не позавидовал. Не такой независимости мне хотелось.
Что я читал на Уткиной Даче и в период Уткиной Дачи? Это ведь тоже черточка к портрету человека и эпохи. С наукой все мои счеты были кончены; в ученые книги я и заглядывать бросил, не верил, что смогу «работать по специальности». Читал только литературу, притом так же беспорядочно, как в детстве и юности: что подвернется. Добрался до Гейне, не прочитанного вовремя. Изумился до крайности: стихи поэта, «открывшего в немецком языке новые звуки» (так о нем сказал кто-то из почитателей в конце жизни классика), были по-русски плохи, бедны звуком. Я сделал отчаянную попытку заглянуть в оригинал и причаститься звуков. Отец мой (его уже не было в живых, он умер в начале 1976 года) дал мне некогда с полдюжины уроков этого языка. Собравшись с духом, я заглянул. Увы; тотчас стало ясно, что по этому пути мне не продвинуться. «Анна унд Марта фарен нах Анапа» — вот был мой немецкий. Куда уж тут Гейне читать. Не было ни сил, ни времени, ни веры в мою способность продвинуться. Ни предвкушения наслаждений, ни цели…
Было еврейское чтение. Слог и мысль Владимира Жаботинского потрясли меня. Я увидел одного из лучших, если не вовсе лучшего, русского стилиста эпохи. Логический строй его фельетонов, их убедительность — цельностью и полнотой не уступали лучшим сочинениям ученых, душевным подъемом (что и не удивительно, если взять в расчет жанр) превосходили их. Эталоном стиля в критической прозе был для меня Ходасевич — Жаботинский выдерживал сравнение с ним и шел дальше Ходасевича: поэт интересовался только русской литературой, еврейский вождь, как древний Маккавей, шел наперекор эпохе, сражался, — его нравственный пафос был шире и грандиознее. Позже еще один автор потеснил во мне Ходасевича: Владимир Соловьев, и тоже — не одним только блистательным слогом и строем мысли, а именно широтой и глубиной нравственного чувства, возвышавшего литературную критику до философии.
Горечь, однако, состояла в том, что указанный Жаботинским путь — путь спокойного и презрительного ухода от всего русского, отказ от предавшей меня русской культуры, — был для меня закрыт. Без опыта с Гейне не приходилось сомневаться: ни один язык не будет мне доступен в должной полноте, а ведь язык для меня не средство, он — цель. Писать стихи можно только на родном языке; писать на выученном — профанация самой сущности поэзии, ее сокровенного таинства. А если так, то чего ради учить чужой язык? Ради материального благополучия? Тут опять стихи помешают: не пустят. Они хотят, чтобы ты всецело им принадлежал. Можно, конечно, и упростить дело: сказать, что виноград зелен. По этому пункту, тоже с горечью, я умел взглянуть правде в глаза: дара выучивать языки мне от природы не досталось. В связи с этим и предстоящая двойственность угнетала: как жить русским языком (понятным, как цель жизни) в другой стране, в другой языковой среде? Не жалкая ли этим определяется мне роль? Но тут выступали на передний план ценности несомненные: семья, человеческое достоинство, — и вопрос этот уходил в тень.
Почти также убедителен был и совеременный еврейский автор, Александр Воронель. Его небольшую книжку Трепет забот иудейских я прочел с громадным воодушевлением. Нравственная ее составляющая была несомненна — и окрыляла. Человек вышел на земляничную поляну: прямо говорил о том, о чем пошлая советская власть десятилетиями заставляла молчать, самое слово еврей сделав запретным. Язык и мысль Воронеля изобличали близкого человека, ученого. Как мне хотелось пожать ему руку! Это и состоялось — и даже вскоре, летом 1984 года, однако рукопожатие осталось несколько односторонним. Воронель стихов не понимал; за поэта он держал Михаила Генделева. В эстетике этот ученый тянул в сторону авангарда; верил, что кандинские выше передвижников.
Конечно, книга Воронеля, вышедшая в тамиздате, проникшая по эту сторону границы неведомыми путями, была готовеньким материалом для КГБ; хранить и читать такое не позволялось. В том же роде была и антиутопия Евгения Замятина Мы, но она принесла мне одно разочарование. Ни полет мысли, ни слог знаменитого и забытого писателя не убедили меня; всё было плоско, незначительно.
Другое рискованное чтение, хоть и законное, я вывез из Псковской области, из Орина, от бабы Любы Беловой: дореволюционную хрестоматию по русской литературе. Там оказалось много поучительного. Например, такое: выяснилось, что не большевики, а еще их культурные предки догадались печатать тютчевское «Люблю грозу в начале мая» без последней строфы, не просто лучшей, не только для автора самой важной, а буквально спасающей это вялое стихотворение. В той же хрестоматии я впервые прочел и лучшее стихотворение Аполлона Майкова Емшан, которое по сей день владеет моим воображением. Лучшее — и даже единственное; ничего живого в этом плодовитом поэте я больше не нашел. Емшан замечателен тем, что патриотическая тема разворачивается не на русском, а на половецком примере; это воодушевляло. Что фактура стиха — не высшего сорта, было ясно как день, но даже и это нравилось. Вот, говорил я себе, что такое правдиво переданное живое чувство: оно делает почти неважным стихотворную технику, искупает ее слабость. В очередной раз я отметил и другое: насколько тема в стихах сама по себе не важна. Чувства мною в ту пору владели самые антипатриотические, моим лозунгом стало словечко разрыв-трава; оно и в стихи попало, притом рядом и в связи с емшаном:
|
… Найти ее, зажать в горсти Разящее быльё, Былое вырвать прочь! Прости, Отчаянье моё. Вот — разрешение оков, Свободы дивной клад. Неразделённая любовь Утрачивает яд. Трава прекрасна и горька, И от сердечных ран Целит вернее, чем строка, Сильнее, чем емшан. Беру, поправшую поправ Без тени торжества, Из всех отечественных трав Тебя, разрыв-трава. |
Однако ж над Емшаном Майкова я готов был плакать — и на Уткиной Даче, и многие годы спустя, причем без малейшей мысли о России. В этом стихотворении хоть и о ностальгии речь, да не о той, не о классической; в нём речь о детстве, о мечте хоть ненадолго вернуть детство, окунуться в его краски и запахи. Нет, классическая ностальгия, ностальгия русской песни, русской литературы — барская лжа. Любовь к родине редко вполне бескорыстна: она сильнее у тех, кто больше от родины получил. По этому пункту я был и остаюсь марксистом: у пролетария нет родины.
Был и еще урок, вынесенный из дореволюционной хрестоматии: стихотворение Лермонтова Желание. Я его не знал — и никто вокруг не знал. Обыщите советские издания сусально любимого юноши-поэта — вы найдете это стихотворение в одном на сто, а ведь оно — из числа самых замечательных. Почему так? А потому, что там юный классик мечтает об исторической родине, на запад стремится, отчизной называет Шотландию, а русские снега — чуждыми:
|
Зачем я не птица, не ворон степной, Пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить И одну лишь свободу любить? На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом, на туманных горах, Их забвенный покоится прах… Но тщетны мечты, бесполезны мольбы Против строгих законов судьбы. Меж мной и холмами отчизны моей Расстилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов Увядает средь чуждых снегов… |
В укрывательстве этих стихов, как ни в чем другом, видим воочию, сколь пошла, сколь подла была эта власть по отношению к своему народу; за какое быдло этот народ держала. Нельзя, нельзя было мечтать в ту сторону — ни Лермонтову нельзя, ни его юным читателям советской поры (потому что нормальным взрослым не до стихов). Нельзя, потому что так и до сионизма домечтаться можно.
Там же и тогда же прочел я Буранный полустанок Айтматова. Прочел, изумился — и оказался перед вопросом: отчего лучшее в советской прозе написано на азиатских окраинах? Почему ни Айтматов, ни Искандер не были возможны в России XX века? Тогда ответ мне представился таким: меньшим братьям Москва больше позволяет, смотрит на их шалости сквозь пальцы; у них больше свободы. Ответ этот был и правильный (взять хоть Аз и Я Сулейменова: разве такое возможно было напечатать в России?), только половинчатый, неполный. Сейчас я знаю, как его дополнить. Для великой прозы необходима нормальная жизнь, с неперекошенной шкалой общечеловеческих ценностей. Прозаику нужен живой человеческий материал. Общество, отравленное идеологией, в качестве такого материала не годится. Но разве не очевидно, что в советское время жизнь на Кавказе и в Средней Азии меньше отклонилась от нормы, чем в России? Из всех подсоветских народов — только русские считали советскую власть своей, родной и кровной. Унижения, неслыханное рабство, ГУЛАГ — всё русские прощали большевикам за их империализм; за сталинский лозунг «первые среди равных». Лозунг, заметим, в той же мере и оруэлловский: «все животные равны, но некоторые — равнее других».
Мысль о том, что мы надолго застряли в отказе, и нужно попытаться не сидеть на чемоданах, а жить, приняла у меня — вслед за тщетной попыткой улучшить жилищные условия — и такое направление: нужно о здоровье позаботиться. Как? А вот, например, зарядку делать и бегать по утрам. Из дому я обычно выходил только по делу да с собакой; гулять ради отдыха так никогда и не научился. И я попробовал; два или три раза пробежался, но в целом физкультура не привилась. Мой темперамент требовал игры, состязания. По той же причине (хотя тут еще и расходы были замешаны) не привлекало меня и плаванье; но попытка была. Прошел слух, что в знаменитых Геслеровских банях открыли бассейн. В детстве отец меня именно в эти бани водил мыться раз в неделю. Помню, я еще мальчишкой был изумлен, прослышав, что этот невзрачный облупившийся дом числится шедевром советской архитектуры. К Петроградской стороне я на всю жизнь удержал особое чувство; тут и только тут я готов был язычествовать, поклоняться камням и деревьям. Возможность раз в неделю дышать воздухом детства подхлестнула мой интерес к бассейну. Прихожу 3 января 1983 года покупать абонемент — и вопроса, где его покупать, не возникает: хвост на улицу торчит. Что же и случалось в ту пору без очереди? В хвосте я оказался рядом с поэтессой Леной Дунаевской, тоже кочегарившей. Нам было о чем перемолвиться. Разговоры пошли о стихах, самиздате, тамиздате и на другие рискованные темы, потому что «страшно далеки мы были от народа». Вдруг (дело было уже на лестнице, очередь продвинулась) Дунаевская предлагает — чтоб окружающие нас не понимали! — перейти на английский, и действительно переходит, умудряется-таки сказать две три фразы по-английски. Училась, значит, в английской школе — ну, и захотела показать мне, человеку, одной ногой уже там находившемуся, что и она не лыком шита; или хотела выяснить, сильно ли мой английский хуже, чем ее. Тогда я впервые поймал себя на вопросе: отчего многие евреи бывают столь бестактны? Потом, особенно в Израиле, увидел, что вопрос возвращается — и даже, в сущности, является ответом: таки-да, есть это в нашем народном характере (с той обычной оговоркой, что бестактными и наглыми нам часто кажутся те, кто умнее нас… хотя и эту оговорку мы поставим под сомнение — как бестактную). Я убедил Дунаевскую вернуться в родной язык и даже говорить не шепотом, а в нормальную силу голоса. Слух животного, толковал я ей, обостряется на шорох и шепот, вообще — на непривычный звук. Незачем было ходить так далеко. Разве неясно, что в нашем советском скотном дворе иностранный язык — та же красная тряпка? Можно было жизнь прожить в этом городе, не услышав другого языка (вернейший признак захолустья). Естественно, в очереди на нас уже косились — и как раз из-за английского, до этого никто и ухом не повел.
По-английски мне приходилось говорить с иностранцами, преимущественно (хоть и не исключительно) евреями, приезжавшими помогать отказникам. Помню мою полную оторопь, когда я при первом их визите к нам (в 1981 году) увидел, что меня — понимают. Вынесенный из школы и студенчества английский оставался безжизненной схемой, чем-то ненужным и отвлеченным. И вдруг! Естественно, понимать гостей было гораздо труднее, чем говорить самому… В числе первых навестила нас в 1981 году британка Nicola Rubin, с которой мы подружились на всю жизнь, а позже, в 1990-2005 годах, жили по соседству в графстве Хартфордшир. Занятно, что ее мужу, Джеффри Рубину, в визе тогда было отказано, и он не без гордости называл себя рефьюзником. Долгие годы длилась и наша заочная дружба с американцем по имени Stuart Taussig. Не знаю уж, чем Таня, Лиза и я так особенно ему понравились, а только он писал мне из Чикаго 14 июля 1983 года, что мы — «самые важные для него люди из встреченных им в Ленинграде». Мы точно не были важными людьми в ленинградском отказе, находились на самой его периферии. Должно быть, на Стюарта произвело сильное впечатление танино гостеприимство. Он и его 20-летняя дочь Elaine оказались в нашей страшной коммуналке как раз тогда, когда Таня (случай совершенно обычный) чувствовала себя плохо. При них она поднялась с постели, бледная, худая и вместе с тем явно радовавшаяся визиту, начала угощать их, и Стюарт сказал, вздохнув: «Идише мама!». Тут я, не без некоторого ужаса, понял, что Стюарт видит в Тане еврейку — несмотря на ее совершенно финно-угорскую внешность. Прошли годы, прежде чем я вполне уяснил себе самое простое: внешность, как и фамилия, может быть у еврея любая; быть евреем — состояние души. Генеалогическое древо помогает в этом, но главное — в окружении, в воспитании, особенно в таких странах, как США, где только безумец может заикнуться о чистоте крови…
Невольное восклицание Стюарта подвело меня еще к одной мысли, ясной как день всякому, но только не русско-советскому человеку: каждый народ считает себя самым задушевным. «Русская женщина» — эту формулу, эту мечту, которую так ловко запряг в свою колесницу Константин Симонов при начале войны, русско-советский человек впитывал с молоком матери, она вбирала в себя всё мыслимое душевное тепло. Моя мать, девчонкой жившая в Германии и чуть-чуть работавшая под немку, этакая белокурая бестия, внешне напоминавшая актрису Любовь Орлову, была кто угодно, только не идише мама. У немцев, подумалось мне, «немецкая женщина» есть воплощение доброты и задушевности… разве может быть иначе?
По еврейским делам появлялись у нас не только иностранцы. Местные отказники, получив мое имя в общих кругах, звонили и приезжали запросто. Общая беда делает дальних близкими. Появлялись и иногородние. Шестнадцатого мая 1983 года оказался у нас в гостях Саша Ступников из Минска. Он, в отличие от нас, был или казался убежденным сионистом, однако ж лет через пять, когда в Москве отпустили вожжи, уехал не в Израиль, а в Америку, оставив дома жену и троих детей — шаг, меня совершенно ошеломивший. В 1989 году судьба свела меня с ним на русской службе Би-Би-Си; в течении нескольких лет мы работали в одной комнате, но не подружились. Репортер милостью божьей, Саша писал посредственные стихи; для отдела тематических передач не подходил по недостатку общей культуры, а в отделе новостей его репортерский дар не оценили. В итоге он уволился и перебрался-таки в Израиль, на этот раз с семьей, о которой вдруг вспомнил.
…Страшные это были годы — и вместе с тем светлые. Страшные нищетой, ожиданием ареста — и ожиданием смерти матери, которая умирала мучительно… умерла 26 апреля 1983 года; за двенадцать дней до смерти взяла в слабеющие руки первый том парижского Ходасевича и, мне чудится, впервые выразила что-то вроде гордости за своего беспутного сына… А светлые — потому, что ни танины болезни, ни моя удрученность, ни гиблая коммуналка, ни сплошным потоком тянувшиеся беды, большие и малые, не заслоняли главного, ни на минуту не раскололи того драгоценного единства, которым была для нас семья. Борис Иванов, часовщик, знавший о моей борьбе за выезд, не упускал случая мимоходом отметить в разговоре со мною, что он не понимает, как можно оставить родину, — я же отвечал ему: у каждого свое непонимание, вам требуется общество, а мне уединение, вы, я слышал, разводитесь, а я не понимаю, как можно оставить семью. В ценностном выражении семья и родина рядом для меня не стояли. Знаменитые слова Андрея Синявского о России уже были произнесены, многих возмущали, иных воодушевляли (ибо в них Россия еще не безнадежна), мне же казались слишком театральными; моя формулировка была проще: мачеха, злая мачеха.
Почти сразу после возвращения из Орина, 31 августа 1983 года, я оказался на свадьбе у Сергея Стратановского. Невесту, ставшую женой, звали, как и мою мать, Валентиной (имя в моем поколении нечастое). Квартира показалась мне громадной. Публика собралась всё литературная. О моем пикировании с Кривулиным уже рассказано, но я ведь не Флобер — отчего же и не повториться? Повтор тут к месту. То, что я сказал дважды, правда… Повернувшись ко мне спиной, Кривулин говорил кому-то (на самом деле мне):
— Еврей — это профессия.
Почему Стратановский пригласил на свадьбу меня и Таню? Вокруг него группировались почвенники, водились культурные антисемиты. Сам он всегда оставался почвенником и патриотом. Можно и так спросить: почему в его, Стратановского, подлинность я всегда верил? Ни его авангардизм, ни его подчеркнутая любовь к родине не оттолкнули меня, хотя вообще одного из этих двух качеств за глаза и за уши хватало, чтобы меня оттолкнуть… Слова же Кривулина имели под собою не только и даже не столько антисемитизм, сколько неправильное понимание английского глагола profess. По городу ходила книжка какого-то раввина, где вступление начиналось фразой: I profess Judaism, «я исповедую иудаизм». Я был задет словами Кривулина, сделал вид, что тоже что-то такое трактую и между делом ввернул в разговоре с Таней:
— Еврей — это призвание.
Конечно, сейчас я скажу, что и русский — призвание (а в чуть-чуть искаженном кривулинском смысле — даже и профессия). В сущности, с XVI века русские (точнее, московиты) только одно держали на уме: хотели стать евреями, пререиначить еврейство, сделать своего бога — Богом. Хотели, да опоздали. Библия уже была написана, слова «несть ни эллина, ни иудея» произнесены. Шутка ли: патриарх Филарет, отец первого Романова на престоле, перекрещивал наезжавших в Москву литваков — из православия в православие!.. Ну, и сегодняшняя Россия той же верой живет: в русского бога верит.
Во всем разные, врагами мы со Стратановским не стали (должно быть, потому, что мало общались), но и тесно не подружились; всегда оставались на вы. Я у него был лишь однажды, на свадьбе; он ко мне на Воинова захаживал не раз. Там и сказал мне перед самым нашим отъездом в июня 1984 года, в дверях перед выходом:
— Какую женщину вы увозите!
Читать это нужно в русле националистической легенды: есть женщины в русских селеньях. При следующей встрече, уже не в Ленинграде, а в Петербурге, в 1994 году, он первым делом спросил меня, не развелся ли я с Таней, а потом высказал догадку, что она меня кормит — своими репортажами на радиостанции Свобода (с 1993-го по 1996-й Таня там состояла стрингером, пересказывала по телефону лондонские передовицы). Здесь он оказался далек от истины. Добытчиком всё еще был я.
Борис Останин, часовщик, наведывался ко мне на Воинова даже часто, притом случалось, что и без звонка. (В 1983–1984 годах телефон, к слову, то и дело у нас умолкал — в коммунальной квартире! — и молчал по два-три дня.) Энергия, притом не без чертовщинки, била в Останине через край, — вот первое, что в связи с ним возникает в памяти. Вторым шла чуждость, которую он хоть и не подчеркивал, но всё же всегда умел мне показать. Ходасевича, на его вкус, я непомерно возвеличил.
— Я — за нормальное захоронение, — говорил он мне в связи с Айдесской прохладой.
Так поначалу я и понимал его энергичную холодность: он — человек другой эстетики; тянет, как и большинство, в сторону авангарда; ему неприятен во мне консерватор (я и ретроградом себя называл). Эта догадка была верна, только не до конца. Как-то в 1983 году, нагрянув без предупреждения в гости с неизвестной мне подругой, он принялся вести самые общие для нас в ту пору разговоры (о самиздате, об общих знакомых, о литературе теперешней и старой, и т.п.), не говорил ничего необычного или неожиданного, а неожиданным был только тон его слов, излишне наступательный даже для Останина. Он словно бы искал предлога — и нашел его. Разговор коснулся процентной нормы для евреев при приеме в университеты. Тут я услышал невероятное:
— Не вижу, — сказал Останин, — почему те, кто с рождения имеют преимущества, должный идти на общих основаниях.
Я переспросил его, не ослышался ли я. Оказалось, нет, не ослышился. Останин имел в виду, не подумайте дурного, не генетические преимущества евреев, а то, что евреи живут богато и могут детям дать лучшее воспитание и образование, — то есть, если вглядеться, как раз именно генетические особенности евреев Останин имел в виду. У меня буквально дух захватило. В первый момент я, было, кинулся приводить ему примеры бедных евреев, да вовремя вспомнил Пуришкевича, учившего: «Хороших евреев — по хорошим гробам, плохих — по плохим». Передо мною был просвещенный Пуришкевич из новых почвенников, из тех, кто боролся с режимом… из «литературы нравственного сопротивления». О чем с таким спорить? Я даже не пригласил его обвести взглядом убогую обстановку в нашей комнате, где семейная кровать была матрацом, стоявшим на четырех ящиках из-под пива. На выручку пришла моя установка «со всеми — одинаково». Я сказал себе: мы с Останиным — сменщики, дежурим у одних и тех же котлов; принадлежим одному и тому же кругу полуподпольных авторов; мы одинаково (похожим образом) относимся к советской власти; у нас есть общее, — вот на этом общем и нужно сосредоточиться; а что он с поворотом, так мало ли чем люди болеют; не обязательно же с прокаженным лобызаться.
Много позже мне вдруг пришло в голову, что этот особенный взрыв агрессивности Останина был вызван тем, что ему в руки попал ЛЕА-1 с моим циклом Подражание Галеви. Подражание-подражанием (Галеви я ни сном, ни духом не читал), а реалии там были очень российские, и почвенника они могли обидеть.
|
Как метет! Метет и свищет — Точно лютого врага По дворам и щелям ищет Ассирийская пурга. Слышны бешеные ноты В песне ветра шутовской — Точно нечисть сводит счеты С вечной совестью людской. Метит сыщик разудалый, Где устроить сквозняки: Катакомбы и подвалы, Этажи и чердаки… Фальконетом, Шарлеманем Пресыщенные дотла, Соберемся — и помянем Наших пращуров дела: Как народной эпопеи Развивалось торжество, Как явили Маккавеи Имя грозное Его, Как Востоком полусонным Мощный гений просквозил, И над миром изумленным Встал Израиль, полон сил… |
Еще больше Останину могло не понравиться другое стихотворение из того же цикла:
|
На свете есть страна, где я не буду лишним. Там хлебом и водой меня не попрекнут. Там именем моим толпа не оскорбится, И лучший мой порыв не назовут чужим. На свете есть страна, где место человека Величьем предков мне не нужно искупать; Не встретят там мой стон холодною издевкой, Не станет боль моя народным торжеством. На свете есть страна, где мысль мою не свяжут, Где гордости моей ярмом не оскорбят. Она — не рай земной: но мне найдется пища. Она — не широка: но мне найдется кров. Она — моя страна, и в ней мое бессмертье. Я — злак ее долин, я — прах ее пустынь. В ее земле взойти, с ее землей смешаться — Вот всё, о чем молюсь, — вот всё, о чем скорблю. |
Эти стихи были немедленно переведены на английский британцем Майклом Шерборном (Michael Sherbourne):
|
On this earth there is a land, where I'll not be odd man out. And there they won't begrudge me my daily crust of bread. And there the thronging masses won't jeer when they hear my name. Nor will my very best efforts be greeted with scorn and doubt. On this earth there is a land, where to claim my niche as a man I need make no atonement for the grandeur of my sires; There the echo of my groans will not be cold contempt, Nor when I cry with pain will the crowds all exultate. On this earth there is a land, where they won't hamstring my thoughts, Where they won't insult my pride with a yoke around my neck. It is no paradise; but there's food enough for me. It is not very large; but there's room enough for me. For this country is mine own, and my eternity is here. In its green vales I'm the grass, I'm the sand of its desert wastes. To sprout and bloom in its soil, to mingle with its soil — For nothing more I ask — for nothing more I grieve. |
Выходило совершенно по-советски: как Лермонтову не разрешали быть чуть-чуть шотландцем, так и мне не к лицу быть евреем. Идея двойного гражданства не укладывалась в головах тогдашних «думающих людей». Они словно бы еще в XIX веке жили, по Тургеневу: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись». Что мир переменился; что ту Россию, отчасти выдуманную, корова языком слизала; что этнос на дворе другой (не говоря уж об этосе и культуре), — это нам в голову не шло. Говорю нам, потому что и мне было тяжело этот барьер перешагнуть. Шаг сопровождался тяжелейшим приступом ностальгии. Соблазн «великой русской литературы», наколотой булавкой и помещенной под стекло сто лет назад, застил зрение. Это была фата-моргана, гипноз. Открыть глаза и увидеть простую вещь: что город вокруг нас построен другой расой для другой расы; что мы всей гурьбой — большевики, часовщики, отказники — прав на эти дворцы и воды не имеем, притом в одинаковой степени, — это стояло за пределами восприятия и постижения, а сейчас — очевидно. Расстояние между Россией Пушкина и Россией после 1917 года — то же, что между Русью Ярослава и Московией Ивана Грозного. На дворе — другой, во всех смыслах другой народ, переродившийся, а в ту пору — еще и оглушенный изоляцией, оторванный от всего мира, совершенно как Московия была оторвана от Европы. Традиция нашептывала народнические басни: «спасибо вам скажет сердечное», а повседневность, здравый смысл и совесть говорили, что под одним небом с этим народом оставаться нельзя.
Разговор о еврейской процентной норме в советских вузах тоже мог восходить к ЛЕА-1: к статье Немного статистики за подписью Г. Р-н, написанной мною (о чем Останин знать не мог) по материалам Валерия Скобло. Я не сознавал, в какой степени ЛЕА раздражал моих коллег по Уткиной Даче и вообще вторую литературу, сплошь, без оглядки на форму носа, тянувшую в сторону православного патриотизма. Я мог бы оказаться проницательнее: доходили слухи, что Кривулин интересовался «еврейским журналом», который будто бы я издавал. Но я ничего не издавал, я помогал издавать. ЛЕА ни на минуту не был моим предприятием.
С Останиным я не поссорился. Не помню, от него ли я получил — притом прямо по смене, вместе с котельным журналом на Уткиной Даче, — первый парижский том Ходасевича; может, и не от него, а от Кобака; было это 4 апреля 1983 года. Двенадцатого августа мы с Останиным столкнулись в неожиданном месте: между Уткиной Дачей и Дачей Долгорукова, железнодорожной станцией, где потом Ладожский вокзал возник. Я ходил за книгой к приятельнице, программистке Рите Шварц, работавшей в этой непредставимой глуши (она брала моего Ходасевича на прочтение). Останин, словно Черный Монах, увлек меня за собою. Мы вместе отправились в город. На углу Литейного и Некрасова он почти силком затащил меня в дешевый ресторан. Я упирался. Оттуда было два шага до дому; никогда я себе не позволял ресторанов, не так мы жили, чтоб роскошествовать, копейки были на счету, но тут то ли голод накатил (было около часу дня), то ли я, по своему обыковению, уступил напору заводилы, а только мы вскоре оказались за столиком (мне «обед-экспресс» стоил рубль двадцать). Останин говорил без умолку, я слушал. Тут от соседнего столика поднимается человек, подходит к нам и просит разрешения присеть. Я не в первый момент соображаю, что вижу перед собою Кушнера, из моей тогдашней жизни выпавшего (а на заднем плане, за другим столиком, маячит его новая жена Лена). Всё это чуть-чуть отдавало сюрреализмом, который не объяснишь: совмещались невозможные планы, полуподпольная литература, мир кочегарок, — и литература подцензурная. В сущности, не очень это было и странно; добывал же я, работая над Ходасевичем, материалы у Фонякова, Арлена Блюма и других верхних людей, встречался с ними; но странность усугублялась неожиданностью… Оказалось, что Кушнер уже слышал о моем подвиге: о выходе первого тома Ходасевича в Париже — и, хм, хотел поздравить меня. Опять сюрреализм… Вообще этот день, 12 августа 1983, был днем сплошных литературных встреч. Кроме названных я виделся с Мачинским (заранее условленная встреча), с Эрлем (он заходил ко мне утром) и со Шнейдерманом (случайно столкнулся на Чайковской, где тот жил). Типичный день — за вычетом ресторана и Кушнера.
Перед глазами — калейдоскоп лиц, густая толпа, и каждый просит слова: Света Вовина, Ира Зубер, Володя Шнитке, Ирма Кудрова, Люба Фаенсон, Лена Пудовкина, Володя Иосельзон, Оля Бешенковская, Зоя Эзрохи, Регина Серебряная, Римма Запесоцкая, Зинаида Моисеевна Фукшанская, Наталья Борисовна Шварц (вдова знаменитого чтеца), Григорий Померанц и Зинаида Миркина (они наезжали из Москвы; я встречался с ними 3 июня 1983), Ида Наппельбаум (2 октября 1983 года Володя Иосельзон сфотографировал меня с нею у нее на улице Рубинштейна), Саша Сопровский и Таня Полетаева (эти москвичи были в Ленинграде в сентябре 1983)… Тут же иностранцы: Пол Коллин из Лондона (приезжавший помогать отказникам) и Петра Шлиркамп из Германии, славистка, специалист по Горькому. Евреи-отказники вперемешку с будущими и потенциальными отказниками: Городецкий, Кельберт, Казакевич, Сеня и Наташа Боровинские (наши ближайшие друзья и соседи; жили на Греческом, в жуткой коммуналке, в страшной бедности), Ира и Гриша Рутманы (друзья, которые потом повели себя странно), Алик Зеличонок, Ира Мостовая, Илья Вол (сослуживец по АФИ), Наташа и Юра Гольдманы (тоже из АФИ), Наташа Рощина, Роза и Эдик Эрлихи, Миша и Люся Цирельсоны. Те, с кем я подружился в кочегарках из не-писателей, тоже тут: Боря Полещук, Оля Фалина… Иных я любил и никогда не разлюблю, с другими ссорился, кого-то обижал. За каждым — целый мир, наша страшная разбегающаяся вселенная. Все они со мною. Никого не забуду, пока жив.
Одного человека из самых дорогих в этом списке не хватает: Валерия Скобло. В последние годы перед нашим отъездом мы не общались.
— Можно многое поменять, — говорил он мне лет за десять до того (в ответ на мои планы переехать в Красноярск или в Новочеркасск в надежде получить работу по специальности): — город, страну, жену… — Ему, философу-фаталисту, всё понимавшему в десять раз лучше меня, такого рода перемены казались смехотворными. Не одобрял он, конечно, и наших эмиграционных планов. Накопились обоюдные обиды…
И еще одного человека не хватает: в конце 1983 года умер от саркомы Семен Белинский, математик, с которым я работал в СевНИИГиМе и как раз подружился.
Рутманы мечтали об отъезде, но не могли и мечтать о подаче на выезд. У них было семь человек родителей на двоих (трое из четверых природных родителей состояли во втором браке), и от каждого из семерых требовалось разрешение. Молчаливый Гриша сперва работал с Женей Левиным в ВИРе (нет-нет, не подумайте лишнего: во Всесоюзном институте растениеводства), занимался наукой, а потом оказался завхозом в какой-то шарашке. Ира Рутман преподавала русский язык в школе, имела литературные склонности, моя работа о Ходасевиче и мой эскапизм произвели на нее впечатление; на меня она несколько пялила глаза, изумлялась моей непредсказуемости. У них — у единственных в нашем окружении — был автомобиль, не слишком новый москвич. Они помогали с перевозками и переездами, а иногда вывозили нас за город. В воскресенье 10 июля 1983 года, едва я сел за стол (я писал тогда о поэте Владимире Лифшице, 1913-1978), врываются Ира с Гришей: едем в Солнечное! Как не поехать? Езда была упоительна, день выдался веселый, безоблачный, жаркий, мы (Рутманы и я; Таня с Лизой были на юге) загорали с часу дня до семи вечера. На волейбольной площадке я столкнулся с Андреем Бердниковым, с которым некогда играл в волейбол за Политехнический институт. Он знал, что я балуюсь стихами, и в перерыве задал мне вопрос:
— Скажи, а кто такой Бродский? Почему я так много его стихов знаю?
Я рассказал о высокой и трагической судьбе изгнанника, о моем (не совсем восторженном) отношении к его стихам, и добавил:
— Удивлюсь, если он не получит нобелевской премии.
Прогноз этот недорого стоил: я знал, что Бродского уже выдвигали.
— Но мой кандидат, — продолжал трактовать я, — другой: Александр Кушнер.
Рутманы давно собирались в Нарву и звали нас с собою. Шел слух, что в Нарве продают сливки, в которых ложка стоит (такие густые; незачем говорить, что в Ленинграде сливки и сметана были куда как жидкие). Поездка состоялась 3 ноября 1983 года и во всех смыслах удалась. В дороге было весело, Нарва не обманула (хоть знаменитых сливок мы почему-то не привезли). Мы с Таней купили там аппарат для кварцевания, Рутманы — стиральную машину Рига. Еще — я купил себе игрушку: помещавшийся в кулаке мячик, отлитый из упругой резины, цветной и прыгучий. Швырнёшь его в пол, он, дважды отрикошетив, отскочит от стенки, а ты — лови; наслаждение! Игрушка была хороша тем, что партнер не требовался. Я играл с этим мячиком до самого отъезда — и дома, и в котельной, и на улице.
Когда отопительный сезон кончался, кочегары занимались ремонтом котлов, уборкой территории и подобными работами на подхвате. Разумеется, и на овощебазы нас посылали; эта повинность распространялась на всех работавших горожан. Кобака и меня назначили ехать в овощегноилище в Зеленогорск 16 сентября 1983 года. Овощегноилища мы не нашли, зато побывали на могиле Ахматовой в Комарове, оба — впервые. На комаровском кладбище нашел я и памятник Анатолию Исааковичу Лурье, профессору, заведовавшему моей кафедрой, принимавшему у меня дипломную работу.
В октябре 1983 года опять мы с Таней подавали на выезд «по полной форме» (со сбором всех немыслимых советских бумажек). В отделе кадров ЛКМЗ меня крайне неприязненно встретила начальница Елена Леонидовна Ханукаева; нужное выдала, но пристыдила. Лишь годы спустя я сообразил, что стыдила она меня не по должности, а по велению совести. А как иначе? Ее фамилия — самая что ни на есть еврейская, от еврейского праздника; от еврейского слова праздник. Всплыла в памяти моя однокурсница и ее однофамилица Ася Ханукаева, родом с Кавказа. С Асей я не дружил, зато приятельствовал с нашим общим сокурсником Альбертом Фридманом, за которого она потом вышла замуж. Альберт рано умер, совсем еще молодым, и не увидел любопытного. Ася сделалась ревностной православной, в том же духе сына воспитала, и сын не остановился на полпути, как большинство советских выкрестов той поры, а ушел в монахи, поселился на знаменитой греческой горе Афон…
По занятному совпадению, молоденькую даму в лейтенантских погонах, принимавшую у нас документы в ОВИРе, тоже звали Еленой Леонидовной, только фамилия не совпадала: Ивановская. Очередной отказ она вручила нам 12 декабря
В четверг 8 марта 1984 года, на Уткиной Даче, я написал стихотворение, которое вошло потом в мою книгу Завет и тяжба. Это было возражение на стихи Кушнера «И в следующий раз я жить хочу в России…» из его новой книги Таврический сад.
|
Насос гремел. Приятель был угрюм, Пил чай, отогреваясь понемногу, И говорил. Индустриальный шум Был к месту, не мешая монологу. — Я не люблю Россию, не люблю. Любил, да бросил. Разлюбил. Насильно Не будешь мил. Ни ямбу, ни Кремлю, Ни Пушкину не поклонюсь умильно. Полжизни я не верил, что она Мне мачеха — и, пасынок случайный, Вздыхал: ее снегов голубизна! Ее размах! простор необычайный! И пышный город, где вся жизнь моя Прошла, где русский дед мой большевичил, Где нет мне ни работы, ни жилья, — Не дорог мне. Долгов — сложил да вычел. За что любить мне этот Вавилон, Глухою, неправдоподобной злобой Меня баюкавший? Чем лучше он Флоренции, к примеру? дух особый? Пусть так: во мне обида говорит. Но нет, и скука, не одна обида, И честь. Зря льстится почвенник: хитрит С ним женщина, Камена иль Киприда. Всех чаще — Клия. Девственницы сей Повадки до оскомины знакомы. Советует: добро и разум сей, И усмехается: пожнешь погромы. И странен мне поэт чудесный тот Кто всё всё отмёл: и гнёт, и голос крови, И — в новой инкарнации — тенёт Всё той же домогается любови. Нет, мой ответ: семь бед — один отъезд! — …Год орвелловский выдался, унылый. Он похоронен в Парголове. Крест Над неказистой высится могилой. |
Я позвонил Кушнеру, похвалил его книгу, очень мне понравившуюся, был приглашен в гости, и в полдень 13 марта 1984 года оказался у него на Таврической — с этими моими стихами. Состоялся, сколько помню, мой единственный долгий разговор с ним без помех — разговор о главном. На мои стихи он ответил хоть и странно: мол, я не русопят (будто я об этом!), а с явно апологетической ноткой в голосе. Затем говорил о конечном торжестве подлинного в поэзии, о том, что сегодняшнее версификаторство умрет своей смертью, как это и в прошлом всегда случалось. Произнес и еще одно общее суждение о поэзии XX века, столь невероятное в его устах, что я не хочу его повторить. С неизбежностью перешли мы на имена неподцензурных поэтов (о подцензурных говорить было нечего). В Елене Шварц Кушнер был разочарован; о Л. П. отозвался вяло-пренебрежительно; О. назвал графоманом. Тут я его прервал, сказав, что и Пушкин ведь графоман, если взять чистый смысл этого слова, без смысла привнесенного; посмотрите, сколько написал; не писать не мог, — О. же мне кажется хоть и не замечательным, а поэтом; Л.П. — тоже подлинная. В ответ Кушнер прямо назвал О. бездарностью. За чертой поэзии оказались Л., Куприянов и Драгомощеннко (тут я согласился), а Кривулин — не за чертой, только посредственен, я же настаивал, что он не выше этих. Полностью мы разошлись насчет Стратановского.
— Он приходил тут недавно, приносил стихи.
— И что вы о них скажете?
— Ничего, — буркнул Кушнер. — Нечего сказать.
Я возразил:
— Его исходная установка ложна, весь авангард ложен, если не глуп, но разве исходная установка Цветаевой лучше? Талант искупает любую подстилающую идею. Стратановский талантлив. Я ненавижу авангард, для меня он квинтэссенция пошлости, но тут — ничего поделать с собою не могу: верю его стихам. Я вам больше скажу: уж он-то едва ли не русопят, а мне и это не мешает. Он единственный во всем ленинградском авангарде, кто пишет живые стихи.
Кушнеру мои слова не понравились. Он перевел разговор на мои стихи, сдержанно похвалил их, но тут же добавил, что живы они не формой, а чувством, в форме же я несилен.
Перед уходом я попросил у него на прочтение стихи Олега Чухонцева, с которым носился Лихтенфельд (русопят несомненный). О Чухонцеве вообще шел благоприятный слух, но я никому из москвичей (поэтов кормушечных) не верил, давно перестал их читать, а Чухонцева и вовсе не открывал. Тут, спасибо Кушнеру, в ближайшее дежурство на Уткиной Даче прочел и нашел его стихи, осторожно говоря, не замечательными. Совсем плоха была какая-то поэма, бесхребетная, как все русские поэмы, кроме пушкинских (и одной-единственной поэмы Фета). Против поэмы как жанра возражал (в стихах) Кушнер. Не исключаю, что в этом я следовал за ним — но ведь не случайно следовал, не случайно это нашло отклик; и не во всем же я за ним следовал. Сверх того меня смешило само это слово. Поэма в переводе означает стихотворение: только и всего. В западных языках нет специального слова для длинного, преимущественно сюжетного стиховорения, в отличие от короткого, преимущественно лирического; эта демократичность кажется мне правильной: ценность мелких (как говорили во времена Пушкина) стихотворений часто выше, чем «поэм». Как перевести название Стихотворения и поэмы, встречающееся только по-русски? Дело до прямой глупости доходит: комментаторы, не знающие ни одного европейского языка, поправляют людей образованных, дают к слову поэма сноски вроде «на самом деле это стихотворение»… Не понравился мне Чухонцев; показался русопятом. На минуту мне захотелось сказать, что он перелагает Кушнера с иврита на старославянский, но эту формулировку я прогнал как манерную, да и верную не до конца.
Во время моей очередной смены 18 марта 1983 года на Уткиной Даче прорвало батарею в дежурном помещении. Несмотря на воскресный день явился заместитель главного инженера, наш прямой начальник Сергеев (с малолетним сыном), и сам батарею поменял (от меня помощь была жалкая), а между делом сообщил мне, что с 1 апреля меня сокращают. Шутка была хоть куда. Сокращают — из кочегарки, из рабочих! До этого на моей памяти сокращали только ученых. Что ж, за кадром что-то неблагоприятное шевелилось давно. Еще в апреле кто-то сказал мне, что в отдел кадров на меня поступила телега. Я не запсиховал, решил (раз в жизни) за свое место под солнцем побороться, хоть и понимал, что дело безвыигрышное. Я продолжал жить, как жил: занимался ивритом (в домашнем кружке) и английским (Доме офицеров на углу Литейного и Кирочной; помню преподавательницу, милейшую Карину Давидовну), писал по-английски письма в Британию и США, сдавал молочные бутылки на приёмном пункете при магазине, сдавал белье в прачечную. Архивистке Мандрыкиной, пожелавшей купить журнал Молчание с моей Айдесской прохладой, отнес этот машинописный журнал, а его составителю Волчеку передал от нее 15 рублей… Бегал за покупками для Зои Эзрохи, у которой разом заболели муж и двое детей (про младшего, Митю, она говорила, что он при смерти), добывал ей калган и зверобой…
Пикантность состояла в том, что хоть меня и увольняли, а хотели, чтоб я, хм, уволился сам, «по собственному желанию» — и остался у них совместителем. Выходило, что человек им всё-таки нужен. За сценой продолжались тихие шаги. От начальства вышел новый указ: нам (кочегарам) — самим решить, кто будет уволен. Мы собрались (в пятницу 23 марта) и бросили жребий. Он выпал мне. Тут я, по словам Останина, повел себя некрасиво. Это, пожалуй, и вправду было некрасиво: я сказал, что судьба — заодно с начальством, а между тем я — самый уязвимый из команды: у меня на руках больные жена и дочь, я много лет сижу в отказе, найти работу мне труднее, чем другим. Будь я свободный художник, я принял бы выпавший мне жребий весело и беззаботно, а сейчас намерен возражать, и не коллегам или судьбе, а начальству ЛКМЗ: пусть объяснят, почему вчера нужно было пять кочегаров, а сегодня достаточно четырех. Если сокращение законно, я уволюсь (в силу жребия). Если мне удастся перешибить кнутом обух, никто не пострадает. Некрасивое поведение признаю: всю эту логику нужно было изложить до жеребьевки. Я надеялся, что пронесет.
Гена Прохоров отмолчался, Кобак осудил меня взглядом, а два Бориса, Останин и Иванов, откровенно обрадовались моему нравственному падению и язвительных слов не пожалели. Повторю еще раз: они были правы, однако ж правота их как-то уж слишком рифмовалась с начальственной. Народ и партия в одинаковой мере хотели избавиться от чужого.
Одно из замечаний Иванова показалось мне не только откровенно злорадным, но и прямо антисемитским. Точные его слова у меня не записаны; приблизительные привести не хочу. Зато телефонный разговор, состоявшийся в субботу 24 марта, я записал. Иванов позвонил мне домой и осведомился:
— Как у вас дела с трудоустройством?
— Прошу вас впредь обсуждать со мною только производственные вопросы, — ответил я.
— Можно спросить, почему?
— Можно. Ваше поведение я считаю низким и безнравственным, и дел с вами иметь не желаю.
Первое, что просится на ум: проворовавшийся проходимец (я) впадает в ложный пафос. Не я ли вел себя безнравственно? Но я сказал, что знаю, и от дальнейших оценок ухожу, перечисляю только факты. Приговор пусть вынесет гипотетический читатель. Иванов написал мне пространное письмо и сам бросил его в мой почтовый ящик на Воинова. Я отправил ему ответ по почте, тоже пространный, страницах на двух машинописи. Кусаю локти, а не нахожу в моем архиве ни того, ни другого документа.
В понедельник 26 марта я был в ОВИРе. Меня выслушали. Я сказал, что меня увольняют из кочегарки, тем самым лишая семью последних средств к существованию, что это явно связано с моим статусом отказника и что я намерен отказываться от советского гражданства. По первому пункту мне резонно возразили: «Мы этим не занимаемся»; по второму велели позвонить в конце апреля. Дивное совпадение: я не знал, что вся наша семья, Таня, Лиза, и я — уже граждане Израиля. Сертификаты помечены тем самым днем, когда мы на Уткиной Даче бросали жребий. Знали ли об этом в ОВИРе?
В этот же день позвонил Стратановский, узнавший от Мити Волчека о моих делах; обещал помочь, чем сможет, по части трудоустройства; передал привет от Вали, с которой у меня «одинаковые литературные вкусы»: Ходасевич. Ну, подумал я, нелегка же у него семейная жизнь, если жена не разделяет его эстетики. Дальше звонки пошли чередой. Звонили даже люди едва знакомые; все советовали, куда устроиться. Я составлял список кочегарок; звонил, ездил и вел переговоры. Нигде ничего реального не наметилось.
Первого апреля, в воскресенье, вместо запланированной шутки вышла другая. Приехал Мартынов с рассказом о том, как он был в КГБ, и с сообщением, что меня увольняют «за письмо о Наде Фрадковой». Письма по заказу Городецкого я писал не раз, писал и о Фрадковой, а что и когда, не помнил; самое Фрадкову разве что видел один или два раза. Она была в числе самых натерпевшихся в ленинградском отказе. Из года в год ей отказывали в визе из-за отца, состоявшего какой-то шишкой в военно-промышленном комплексе. Можно сказать и так: отец отказывал; не давал разрешения, а без такого разрешения и ходатайствовать нельзя было. Отец же способствовал тому, что ее упекли в психушку, что было хуже тюрьмы и ГУЛАГа. С наступлением воли Фрадкова (она занималась математической лингвистикой) уехала в Израиль, не прижилась там и перебралась в США.
Второго апреля Сергеев сообщил мне, что увольняют меня с 6-го. Я уже объехал несколько котельных; не переставал изумляться тому, как много евреев в них работает — и не диссидентского, даже не отказницкого вида; а 5-го апреля (на другой день после отправки моего письма Иванову) Таню и меня вызвали в ОВИР … — это уже рассказано? Всё равно. Истина не тускнеет от повторения, а она была упоительна, невероятна …— и велели «быстро собрать, что успеем, к завтрашнему дню», и свежий вызов — не нужен!
Выйдя из милицейского здания на Чехова 11, от лейтенанта Ивановской, я тут же позвонил Кельберту:
— Я слышал, Леня, что у тебя есть лишние чемоданы…
— Неужели потребуются? — спросил он.
Вскоре выяснилось, что могут и не потребоваться. Сеня Фрумкин, услыхав мой рассказ об ОВИРе, только усмехнулся: такое уже было под солнцем. Три года назад инспекторша ОВИРа к нему домой прибегала — такая была спешка; и что? Городецкий тоже не верил.
В субботу, 7 апреля, в восьмую годовщину смерти отца, мы с сестрой Ирой были на Серафимовском кладбище, на могиле родителей и бабки. Сестра расчувствовалась; назвала свое поведение по отношению ко мне злодейством, притом совершенно зря (родительская квартира отошла не ко мне, а к моему племяннику, ее сыну). Злодейством, говорил ей я, было бы, если б она разрешения на выезд мне не давала, а тут она была безупречна. Что нас отпускают, Ира не сомневалась; желала нам счастья там. Спрашивала (несколько риторически), когда и какая ошибка была совершена ею и родителями, то есть: что довело меня до этого? Сказала, среди прочего, странное:
— Неужели ты не знал, что отец не имел в семье своего голоса?!
Я не знал; и тут не до конца поверил.
От кладбища до Черной речки мы шли пешком. Говорили о разном. Среди прочего, я рассказал о судьбе эссеиста Григория Померанца, в ту пору очень модного в Ленинграде; упомянул, что в 1945 году, его, только что вернувшегося с фронта, посадили.
— За что? — спросила Ира.
— Ну, всех же сажали, — сказал я, опешив от вопроса.
— Твоего отца не посадили, — возразила она.
Спорить было бесполезно. В свои 52 года Ира всё еще не понимала общества, в котором жила… Должно быть, очень бы удивилась, если б ей тогда сказали, что и сама она эмигрирует (вслед за сыном)… В 1989 году, еще из Ленинграда, она писала мне: «Как ты был прав! Теперь ты — старший в семье…» Но тут она ошиблась: на эту роль я не тянул.
В тот же день у станции метро Петроградской я столкнулся с Ш., приятельницей одного из котельных поэтов нашего круга. Мы с нею недолюбливали друг друга; она не упускала случая вставить мне шпильку. В этот раз — спросила, верно ли, что я осуждаю христиан (она была ревностной православной)? Я совершенно не понял ее вопроса, не знал, что отвечать. Сейчас вижу, что вопрос восходил к ЛЕА — как и вся цепочка событий моих последних месяцев в России. В голосе Ш. мне почудилась истерическая нотка. Она говорила о добре и Добре — и я опять не понял, что это отклик на мои ханукальные стихи в ЛЕА:
|
Диким сонмом рыщут мимо Гайдамаки, басмачи: Злобе дня невыносимо Пламя чистое свечи… Лейся, трепетное пламя! Теплись, ангела перо! Мы не дрогнем: наше знамя — Справедливость и добро. |
Мой отъезд был уже у всех на слуху в литературных кругах. Ш. спешила выговориться, бросала обвинения: вы, говорила она, эгоист; вы весь состоите из недостатков, весь внутри плоской схемы, за рамки которой не смеете выйти по нехватке мужества, вы не в состоянии отказаться от выбранной роли… — Я слушал и соглашался, возразить мне было решительно нечего. Уж кто-кто, а я-то знал о своих недостатках, был заворожен, загипнотизирован ими. Наконец прозвучало нечто не совсем уместное: что я стар и неспособен начать всё сначала… — Я вытаращил глаза. Ш. говорила со мною, как отвергнутая возлюбленная, а ведь между нами ни полслова никогда не было сказано о любви, одни колкости. Меня Ш. всегда именно тем и поражала, что с нею не удавалось поддержать связного разговора. Странная сцена! Верно: я весь был внутри своей роли. А что, у других — иначе? Кто-то сидит на ней верхом? Роль же есть у каждого.
В понедельник, 9 апреля, выяснилось, что я всё еще не уволен с ЛКМЗ. Меня приглашали явиться в среду на заседание профкома, но сперва, и немедленно, подписать приглашение. Я поехал в управление (оно располагалось где-то на Невском); мне так или иначе нужно было ехать туда: ОВИР требовал заверенную копию моей трудовой книжки, но ОК ЛКМЗ по непонятной причине уперся, и в итоге Ивановская приняла у нас документы без этой копии.
На заседании профкома мое увольнение было ратифицировано. Когда приговор зачитали, я предъявил мое котельное удостоверение, полученное еще в Теплоэнерго-3. По этому удостоверению получалось, что у меня наивысшая квалификация среди кочегаров Уткиной Дачи (я ведь начинал работать как сменный мастер); правда, такое же удостоверение было и у Кобака, а у остальных — на ступеньку ниже. На деле, конечно, я был худшим среди пятерых, но ведь в том обществе всё решалось бумажкой. На другой день Сергеев рассказал мне, что после моего ухода с главным инженером случилась истерика. Он был убежден, что я отправился прямо в суд.
Но я отправился домой, а дома застал Лену Пудовкину: она приехала читать мою переписку с Ивановым. О нем сказала без обиняков, что никогда не могла решить, дурак он или подлец. Так далеко я не шел и в моих мечтах. Лена не осталась голословной, привела факт. Иванов, прирожденный общественный деятель, коллективист и демократ (это ведь ему потребовался Клуб-81 с саксофоном и роялем), настраивал против меня общественное мнение. Среди прочих (рассказала Лена) посетил он в котельной Олю Бешенковскую и — чудный момент! — не подозревая, что она еврейка, поносил на чем свет меня и евреев вообще.
Песах 16 апреля мы отмечали у Зеличонков, с кошерным вином и хоросетом, приготовленным Таней. Праздник выдался с горчинкой: на Алика, который недавно перенес операцию и вообще здоровья был не выдающегося, завели в КГБ дело: объявили его главой сионистского общества по вычислительной технике! По этому делу он в итоге и сел, уже после нашего отъезда. Зато умом и мужеством Алик Зеличонок обладал именно выдающимися, последовательностью — редкостной: за это и поплатился. Именно таких бессовестная, залгавшаяся вконец власть не прощала.
Чего было ждать у моря погоды? Дела двигались без моего участия. Сдав документы в ОВИР, простившись с Уткиной Дачей, я отправился в Москву — в первый и единственный раз не по делу, а ради развлечения. Деньгам (наконец-то) не на копейки велся счет. Таня экспромтом присоединилась ко мне; пошла провожать меня на Московский вокзал — да тут же и билет взяла (Лиза жила у тещи). С 30 апреля по 6 мая — (Москва, как много в этом скуки… или муки?) — мы с Таней обитали у Сопровского, точнее, у Полетаевой, в Юрловском проезде (дом 25, квартира 94), и у Персицев в Марьиной Роще: у моей двоюродной сестры Риты и ее мужа Марка. Идише мама, единственная из встреченных мною в России, — это как раз была мама Риты, тётя Женя, точнее — Шиндель, урожденная Фельдман. Вот кто лучился добротой, радушием, задушевностью!.. Ей суждена была долгая жизнь: в 2008 году, в далеком Денвере, тёте Жене перевалило за сто лет… А ее внучка, единственная дочь Риты, Анечка Персиц, умерла в 1990 году в Вашингтоне, в возрасте 38 лет… погибла при не совсем ясных обстоятельствах. Странно: люди уезжали за границу (бежали из проклятого СССР) с тем, чтобы жить, но некоторые вместо этого тут же умирали…
Забегаю назад. Тут самое время сказать о Кассандре. В Москву мы ехали — втроем, на двух поездах, шедших буквально друг за другом: я — на красной стреле (поезд №1), Таня и Кассандра — на поезде №3. Разница в отправлении и прибытии составляла 5 минут… Еще в октябре 1983 года, в предвкушении пятого отказа, получив по морда́м в жилищном отделе района, решили мы попытаться затеять жилищный обмен. Дело было совершенно безнадежное (жилье дрянное, денег для приплаты нет), но утопающий хватается за соломинку. Бывшая жена Мачинского, эрмитажный искусствовед Люба Фаенсон, обещала помочь — и свела нас с двумя немолодыми сестрами, Г. и Д., тоже затевавших обмен. Мои комбинаторные способности пасовали перед многоходовой комбинацией, при которой мы из одной комнаты должны были получить две (тоже в коммуналке), но люди более умные видели тут шанс. Так или иначе, 28 октября мы оказались на Саперном переулке, у Г. и Д., где и познакомились с ними, а с Г. (она и есть Кассандра) и подружились. Г. была музыкантом — не совсем состоявшимся; в молодости готовилась стать оперной певицей, но болезнь помешала ей; всю остальную жизнь, до пенсии и переезда в Израиль, Кассандра зарабатывала на жизнь тем, что переписывала ноты. Прозвище (не то чтоб всеми принятое, но уж мы так ее звали) пошло от ее странного дара предчувствовать будущее. В самый день нашего знакомства на Саперном переулке, после составления каких-то обменных комбинаций (комнаты сестер нам очень понравились), мы пустились в общие разговоры. Г. оказалась моей читательницей, прочла Айдесскую прохладу, очень хвалила; а на прощание сказала странное:
— Зачем вам меняться? Вы скоро уедете.
Замечательно здесь было то, что хоть мы с Таней отличались открытостью, всем всё говорили, не таясь (в том числе и по телефону, который совершенно откровенно прослушивался), а вот именно в этот вечер, в этом доме — о наших отъездных планах речь не заводили… Получив через две недели отказ, я позвонил Г., сказал: не сбылось ваше пророчество, а она ответила: всё равно я знаю, скоро уедете.
Мы из обмена выпали сами собой. Не выходило. А сестры в итоге хорошо обменялись с приплатой, получили прекрасную квартиру на улице Восстания. Когда уезжали в 1990 году в Израиль, они продали ее за бесценок, за семь, кажется, тысяч фунтов. Нам — купить почему-то не предложили. Уж такую-то сумму мы бы наскребли при всей нашей бедности, набрали бы в долг, — и танина сестра Лида получила бы впервые в жизни приличное жилье, разъехалась бы со своим ненормальным братом. Обиду заслоняло только одно: через пять лет эта квартира стоила полмиллиона долларов, а дальше — может, и миллион. Случись нам ее купить, обидчиками оказались бы мы — и мучались бы угрызениями совести.
После возвращения из Москвы (тамошние приключения с Сопровским описаны) пошел я в ОВИР, и получил совет: не трудоустраиваться до 16 мая. Жизнь вернулась в привычное русло, только я не работал. Забегала к нам Лена Игнатова, единственная из питерских поэтов, в чей талант я верил безоговорочно (а уж она-то была почвенницей стопроцентной). Таня ее время от времени стригла. Лена тоже слышала о моем столкновении с Ивановым; читать переписку не стала, сказала только: «Разве ты не знал, что он — ненормальный?» Нет, этого я не знал и не подозревал; изумлялся (до столкновения) только одному его качеству: его непреодолимой потребности быть в гуще, петь хором.
На Ольгинской улице, у Ильи Вола, математика из АФИ, я забрал часть хранившихся там моих рукописей. С Ильей судьба свела меня уже после АФИ. Когда я уходил, он как раз был принят в аспирантуру — и в стенной газете, весьма рискованной, в разделе Рога и копыта, появилась шутка, обыгрывавшая его фамилию: мол, в нашем полку прибыло. В АФИ вообще остроумничали на славу. Одного альпиниста, Израиля Иоффе, шаржировали в той же газете, в связи с его отправкой на очередное восхождение, рисунком: он с ледорубом и в шлеме, на крутом склоне, а подпись гласила: «Израиль идет в гору». Самодеятельность там тоже была порядочная (заправлял, сколько помню, Сергей Милещенко), вся на таких вот намеках. Туповатое начальство скрежетало зубами… А Илья Вол оказался настоящим племянником моего названного (для ОВИРа) дяди Виктора Кагана, славшего, среди прочих, нам вызовы из Израиля. Виктор отсидел в ГУЛАге положенное, работал, сколько помню, какое-то время в одной шарашке с Солженицыным, совсем пожилым уехал в Израиль — «с ярмарки», по его выражению, но там нашел себе место и работу, написал замечательные воспоминания и даже родил сына Экутиэля-Яакова.
Среди моих бумаг, хранившихся у Вола, была папка под названием Рептильная лира: почти полный список моих стихов, начиная с 1956 года, куда и обломки входили. Илья при получении попросил разрешения прочесть список. Я, скрепя сердце, согласился. Это было — как в исподнем предстать; но и отказать было нельзя. Принимая на хранение, человек рисковал. Но Илья смеяться не стал. Когда я забирал бумаги, он сказал мне:
— Наконец-то я понял, чем Колкер занимается.
Что ж, это была правда: моя работа в АФИ работой не выглядела, а вместе с тем и полным олухом, как можно заключить из этих слов, я не казался… не всем казался.
Наступило 16 мая; звоню в центральный ОВИР; там говорят: звоните в районный; в районном говорят: ничего не знаем… Ну, подумал я, правы были скептики. Пошутили с нами. Опять звоню в центральный. Теперь говорят: вам нужно зайти в районный и расписаться. Что за пинг-понг? Звоню в районный, в полной уверенности, что — отказ. Тут происходит неожиданное: прямо по телефону мне говорят, что нам дано разрешение. Разрешение! Зайти между 16:00 и 18:00… Кто не выигрывал миллиона в лотерею, тот меня не поймет. Выехать нам было велено до 11 июня.
Слух моментально облетел весь город. Выезд ведь был почти закрыт (потом я выяснил: за весь год отпустили 941 человека — евреев, немцев, всех, со всех просторов богоспасаемой родины; лишь в 1985 году отпустили еще меньше). Народ буквально хлынул к нам в коммуналку, хоть прежде дня без гостей не проходило. Пили практически ежедневно; никто не приходил без вина; несли в меру своей испорченности: одни — водку (Боровинский), другие — шампанское (Игнатова). В самый день разрешения за нашим столом сошлись люди, не имевшие, в сущности, шанса сойтись еще где-нибудь. Все были перевозбуждены. Болтали без умолку. Наташу Боровинскую мне пришлось провожать на Греческий за полночь — и мы всё не могли наговориться. Через пролом в решетке залезли в Таврический сад и на скамейке предавались мечтам о нашем светлом будущем в свободном мире… Однако ж ей и Сене предстояли еще три с лишним года родины, из которых полтора он отработал на Красном треугольнике по приговору за свою сионистскую деятельность.
Начались хлопоты, счастливые, но и очень советские. Справку из Ленпроката, что мы — не должны! А то возьмем и прихватим с собою государственный холодильник… Выписка с жилплощади — долой прописку, ненавистное советское изобретение (взятое у немцев). Военкомат — я присягу давал, а тут — пожалуйста, никаких вопросов; штампик — и прощай навсегда. Генеральную доверенность на свояченицу. Телефон отключен (в коммуналке!), звонить бегаю из автомата. Ремонт комнаты мне оценивают в 136 рублей, ремонт мест общего пользования — в 316 (и я отметил, что эти числа рифмуются). Деньги — есть: нам помогают.
В четверг 17 мая я забежал к Кушнеру: вернуть Чухонцева и проститься. Он внезапно подобрел, был прямо сердечен. Ему будет меня очень не хватать, я очень талантлив, но у каждого своя судьба… тут я инстинктивно вздрогнул: вспомнил стихи Леонида Мартынова «И вскользь мне молвила змея: у каждого судьба своя» (но вздрогнул зря, Кушнер Мартынова не прочел, и уж к нему, Кушнеру, эти слова никак не относились). Вздрогнуть было от чего. Он примеривал мою судьбу на себя! — в это едва верилось; судьбу Бродского — такое бы я понял. Еще в 1970-е (когда я примеривал судьбу Кушнера на себя) не раз и не два говорил Кушнер на Большевичке, и не мне, а всем говорил: есть судьбы, насыщенные событиями, но бедные текстами, а есть другие: возьмите Пушкина, которого так и не пустили на Запад. Лишь годы спустя я понял, что Кушнер при этом имел в виду себя и Бродского… Писать, сказал Кушнер, он мне не будет; вообще писем за рубеж не пишет. Мои вчерашние стихи назвал замечательными… речь шла о неудачном наброске, который я никогда не публиковал и которого чуть-чуть стыжусь. Дословно было сказано: он очень рад, что я стал таким настоящим поэтом… О нем, Кушнере, Кушнер просил не писать («славы я не ищу»). Поэт, по его словам, вообще не может быть понят современниками. Кому нужен Боратынский? (Кушнер всегда писал эту фамилию через а: давний предмет наших споров.) Галич — плох; это новый Полежаев. Гражданский пафос недорого стоит. Жизнь — всегда трагедия именно потому, что счастье бывает таким непомерным… Бог не мог не меняться вместе с нами, он теперь другой (!)… Н. невесть что о себе мнил, а оказался незначителен… Л. не хватает живой горячей души… Между делом поэт сказал:
— Если б вы мне принесли ваши стихи последнего времени, я был бы очень рад…
Против этих слов я злорадно приписал в дневнике: «Как бы не так!» Среди причин моей эмиграции нужно, хоть и в последнюю очередь, отметить и эту: я не хотел жить с Кушнером в одном городе. Чувствовал: задушит одним своим соседством. Задушит и засушит. Счастливы те, кто остался глух к обертонам его музы! Я — не остался. Я знал: страдивариевская скрипка в городе — одна, да и в стране тоже. Кушнер ее своими руками из подножного материала изготовил. На такой скрипке что ни сыграй, хоть в четверть души, всё за душу возьмет. А для моей жалкой музы эмиграция — как раз подходящее испытание: выдержит — значит чего-то стоит; не выдержит — туда ей и дорога.
Город я уступал Кушнеру без малейшего сожаления. Петроградскую сторону, страну моего детства, у меня только смерть отнимет; я носил и ношу ее в душе. Остальное не стоило слез. За площадью Льва Толстого начинался глинозем, за Лиговкой — пески, вдоль Московского проспекта — солончаки.
Однако ж поэту нужно было спешить: он ехал выступать перед трудящимися за 15 рублей вознаграждения. Он переоделся при мне; сменил рубашку. Спросил совета, надеть ли галстук, и совет принял: не надел. Спросил, не озябнет ли в одной рубашке; я объяснил, что на улице жара. Его новая жена Лена и его мать напуствовали меня на пороге моей новой жизни. С первой я простился навсегда; вышел вместе с поэтом и посадил его в 134 автобус. Ослепительное солнце… Молодость еще не прошла… Впереди — свобода.
За эту сцену у Кушнера, за эти подробности — меня упрекнут. Скажут: я себя не в лучшем свете выставляю. Может быть. Возражать не стану; но и от написанного не откажусь. Еще раз повторю за Руссо: изображая себя, «я не обещал вам нарисовать портрет великого человека». Добавлю: безупречного — тоже не обещал. Я — не более, чем я: следую дневнику; хочу быть точным — и хочу остаться собою. Не повторяю за Руссо: «отыщется среди моих бумаг», «раз уж моему имени суждено жить»: не отыщется, потому что не предстоит. Выбросят на другой день после похорон. Но если случайно не выбросят, то отыщется — и подтвердит: я был точен, себя приукрашал не чрезмерно.
Остановилась ли прочая жизнь? Нет. В пятницу 18 мая отправился я в Географическое общество. Была объявлена лекция Юхневой о Пражском гетто. Собрался весь лениградский отказ… но лекцию отменили: в зале, вот беда, не включалось электричество.
В танин день рождения, 22 мая, не всех удалось рассадить, выручала только текучесть: одни приходили, другие уходили. Рядом, локоть в локоть, теснились люди, способные, чудилось, в реакцию аннигиляции друг с другом вступить. Римма Запесоцкая явилась с цветами от Померанца и Миркиной, которых я почти не знал, а Таня едва ли и видела.
Нужно получить в Публичке разрешение на вывоз англо-русского словаря и еще каких-то книг; а другие книги — распродать. Лучшее оставляем, берем только самое необходимое: ведь всего четыре чемодана разрешено. Анатолий Бергер, ценитель Ходасевича, прошедший лагеря, за 120 рублей забрал главное сокровище: Историю Карамзина в дореволюционном издании, попавшую в наш нищий дом только потому, что ее, соберитесь с духом, списали из Таниной библиотеки, предназначили на выброс. С деньгами Бергер тянул буквально до нашего отъезда — и заплатил в итоге только 80 рублей.
Остался и другой должок. Еще в субботу 31 марта я заступил за Останина смену на Уткиной Даче, на условии, что он отдаст мне 25 рублей (столько стоило суточное дежурство). Он с долгом тянул, я не настаивал, но перед самым отъездом просил его при первой же возможности передать деньги тёще, жившей на грошевую пенсию. Останин обещал, но возможность так и не наступила. В 1994 году, впервые отправляясь в пенаты, я решил, что при встрече в шутку напомню Останину об этом долге. Скажу вдобавок, что долг вырос. При нашей эмиграции за доллар давали 56 копеек; это превращало 25 рублей в $44.64; уже неплохо; к 1994 году сумма, исходя из трех процентов (по английским ставкам), возвышалась до $59.99, а из десяти процентов (по русским) — до $127.36 доходила. Раз уж я еврей, останусь им до конца; какой же еврей — не процентщик? Но судьба в тот год нас не свела. А когда свела несколько лет спустя (тещи уже не было в живых), я увидел, что забыл важную черточку этого замечательного человека: с чувством юмора у Останина трудности; не оценит шутку… Ну, и решил: пусть себе мой еврейский счетчик продолжает щелкать сам по себе в моем уединении — как ходики; никому ведь не мешает. Сейчас, когда пишу, из трех процентов там уже $90.74 выходит, а из десяти — $439.69 получается. К 2066 году, накануне моего 120-летия (у евреев принято желать в день рождения: ад меа вэ-эсрим: до ста двадцати), мы с тещей наконец-то разбогатеем: сможем взыскать с Останина $110643.64, причем на этих 64-х центах я принципиально настаивать не буду. А уж в 3000 году сумма и вообще сделается солидной:
| $55729480138502900000000000000000000000000000.64 |
Предчувствую, однако, что к 3000 году мелочная моя злоба иссякнет. Тут счетчик свой я выключу, долг Останину прощу, мы с ним воскликнем: «Русский с евреем — братья навек» и, под мелодию, Обнимитесь, миллионы, обнимемся.
В Москву пришлось мне ехать еще раз, теперь — по делу: отдать в голландском консульстве мои дипломы (большевики их вывозить не разрешали, однако ж не мешали это делать через голландцев) и, что было в тысячу раз важнее всех дипломов на свете, мои стихи: ту самую Рептильную лиру. Дипломы я сдал в обычном порядке, а за стихами ко мне вышла из консульства девочка, хорошо говорившая по-русски. Мы перемолвились несколькими словами. Чиновница — вела себя как человек! Рассказала, что жила несколько месяцев в Израиле, работала в кибуце… Всё переданное ей в руки дошло, спасибо ей; хотя и через отказницкие круги я послал фотографическую копию (спасибо скептику Сене Фрумкину).
К 11 июня мы не уехали. С Таней приключился гипертонический криз. Нам дали недельную отсрочку — и 17 июня это состоялось: необратимое событие всей жизни, отбытие на Марс. «Был скрипач Пали Рач — и нет его…» С родными и друзьями прощались навсегда… Рождение; свадьба; рождение первого ребенка; эмиграция; смерть — что еще в этот ряд поставишь?
…Регина Серебряная, библиотекарша на фабрике Большевичка, организовавшая в 1970 году литературный кружок Кушнера, шутку ценила и посмеяться умела. Каламбурили мы в компании на все лады. Подсмеиваясь надо мною в связи с чем-то, она выдала экспромтом: «Я Колкер здешний!» и сама себе удивилась. Я подхватил этот веселый вздор. Посыпались вариации: «Не Колкер бушует над бором…», «Над седой равниной моря Колкер тучи разгоняет, между тучами и морем гордо реет Голда Меир, черной гадине подобна…», но всё это меркло рядом со случайной обмолвкой Регины; в ней, в обмолвке, что-то было невыразимо смешное, по крайней мере для нас тогдашних. И вот — это кончилось, притом навсегда. В один прекрасный день, 17 июня 1984 года, из Колкера здешнего я стал Колкером тамошним.
4 июля 2008,
Боремвуд, Хартфордшир;
помещено в сеть 12 мая 2008