

…ты права: Эпштейнов много, но для меня существует только один: Леопольд Эпштейн, замечательный поэт. Да-да: тот самый, которого балтиморский журнал Вестник при жизни Бродского провозгласил лучшим поэтом эмиграции. Мы с Эпштейном давно в размолвке, а некогда дружили; я любил его, как немногих. Причины размолвки можно обсуждать, а можно не обсуждать. Возраст и другие внешние обстоятельства делают своё дело. Мы с ним давно живём в разных странах, наши судьбы сложились непохожим образом. Мы прекращаем общаться в очень трудное для меня время, когда мне было не до дружбы, даже не до стихов… Я ведь рассказывал тебе о нём? Блестящий юноша, родом из Винницы, выпускник московского мех-мата, жил после окончания МГУ в Новочеркасске, откуда в 1991 году и был выгнан добрыми дядями за границу; поселился в Бостоне; жена его перенесла в Совдепии тяжёлую онкологическую операцию, но не поправилась и в США, умерла молодой…
Но правда и то, что наши споры о стихах, наши эстетические разногласия с годами не становились мягче и, наконец, внесли свой ощутимый вклад в нашу окончательную размолвку, которую и ссорой можно назвать. Тут к месту признать, что мой ригоризм иногда граничит с тупостью. Я и сам на себя удивляюсь, но перемениться не могу. На днях в одной шумной компании зашла речь о Путляндии, а я возьми да и ляпни, что все низости Кремля отступают для меня на второй план перед той низостью, с которой эти великопуты и лилипуты употребляют кавычки. Вздор ведь, не так ли? Сумасшествие? Есть вещи поважнее? Но вот я тебе клянусь, что живи я в Путляндии, я бы физически страдал от ихних кавычек и других языковых низостей больше, чем от любой политики. Это не объяснить, этого не изжить… И это только пример. А вот другой пример. Как я мечтал вернуться в Израиль, ты знаешь. У меня и квартира там была, и работу мне обещали. А что меня остановило? Напомнить? В этой чудесной стране, где я всё люблю, всем восхищаюсь, одну-единственную вещь я люто ненавижу: то, что у них в официальных бумагах и письмах повелось фамилию писать перед личным именем! Для меня это невыносимо. Евреи, видно, решили, что они венгры! А занесли эту азиатчину ещё первые халуцим в 1910-х годах, и откуда занесли? из России!
Возвращаюсь к Эпштейну. Этот умнейший и талантливейший человек всю жизнь, не меняясь, рифмует так, как повелось у крикунов на подмостках московского политехнического музея в 1950-1960-е годы. Чем дальше от правильной рифмы, от благозвучия, тем профессиональнее: вот их девиз… Ах, не напоминай! я и сам помню: и я в семнадцать лет перенял эту манеру. Кто в семнадцать не с левыми, у того не в порядке с сердцем… Отказ от усечённой рифмы (и от начальной строчной в стихе) я в мои двадцать пять лет переживал как нравственное преображение, как очищение от скверны… слава богу, тебе это растолковывать не нужно… Рифма типа чирикала–чернильница или кромешный–крылечку (как и начальная строчная) стали для меня изменой родине. До прямой низости, до рифмы в духе Маяковского, Эпштейн, конечно, никогда не опускается, но от щегольства расхлябанностью отказаться не хочет, простой истины, высказанной ещё в XVIII веке, не слышит: рифме к лицу крахмальный фартук и чепчик, а не ожерелье. Депрео писал:
|
Нет, рифма не должна со смыслом жить в разладе. Меж ними ссоры нет и не идёт борьба: Он — властелин её, она — его раба… Но чуть ей волю дать — восстанет против долга, И разуму её ловить придётся долго. |
Не вижу, чтобы эту истину можно было поколебать. Рифма должна быть опрятна и незаметна. Когда она слышна, поэт врёт, пустословит.
Конечно, мы с Эпштейном и о другом в этих письмах говорим и во многом соглашаемся друг с другом. Заметь, переписка начинается в 1979 году, когда мне 33, а ему 31 или 32 года, мы ещё молоды и полны надежд, уповаем на возрождение России, в свои силы верим… а кончается в 2003 году, когда я помышлял о самоубийстве…
Да-да, не отступлюсь от этого: замечательный поэт, умнейший и достойнейший человек, но я давно разлюбил его стихи, разошёлся с ним в чём-то очень важном для меня (то есть и его разлюбил), и вот теперь, собрав и перечитав уцелевшие письма, прощаюсь с ним навсегда. Писем Эпштейна ко мне сохранилось около сорока. Все они теперь собственность Гуверовского института при Станфорде… Ты, я предвижу, скажешь, что некоторые из моих писем к Эпштейну не делают мне чести. Пожалуй, что и так. Ну, да я ведь не чести домогаюсь.
Ю. К.
март-апрель 2018,
Боремвуд, Хартфордшир
Леопольду Викторовичу Эпштейну
346410 Новочеркасск
Фрунзе 55-8-31
6.11.79, Л-д
Дорогой Лёня,
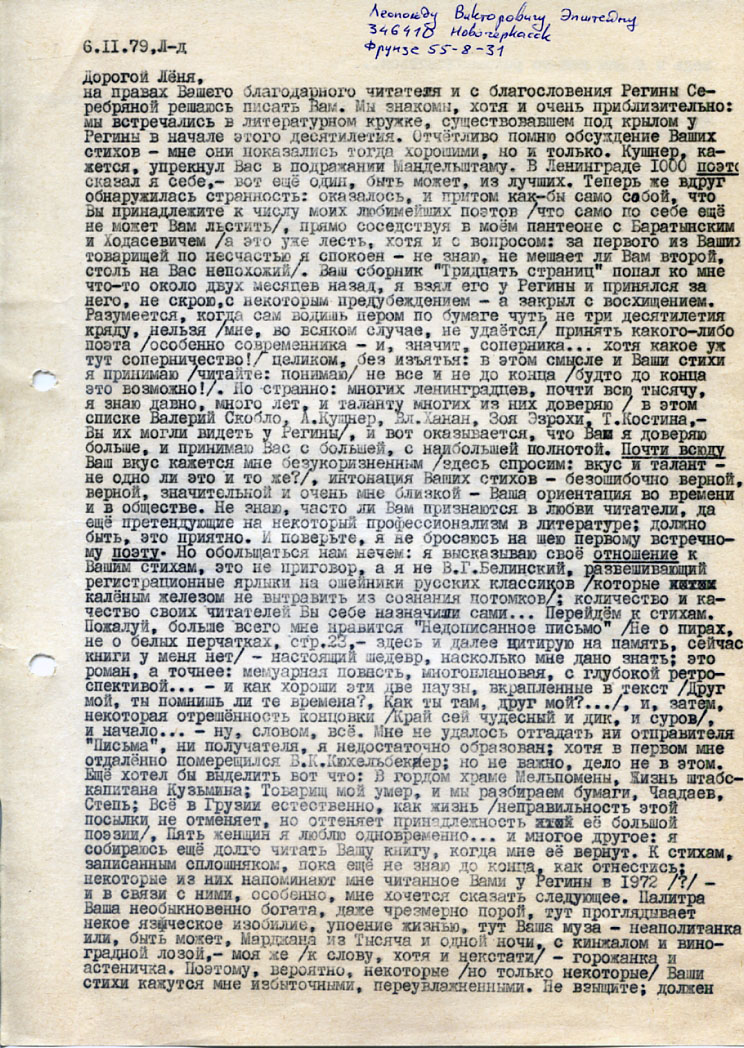
на правах Вашего благодарного читателя и с благословения Регины Серебряной решаюсь писать Вам. Мы знакомы, хотя и очень приблизительно: мы встречались в литературном кружке, существовавшем под крылом у Регины в начале этого десятилетия. Отчётливо помню обсуждение Ваших стихов — мне они показались тогда хорошими, но и только. Кушнер, кажется, упрекнул Вас в подражании Мандельштаму. В Ленинграде 1000 поэтов, сказал я себе, — вот ещё один, быть может, из лучших. Теперь вдруг обнаружилась странность: оказалось, и притом как-бы само собой, что Вы принадлежите к числу моих любимейших поэтов (что само по себе ещё не может Вам льстить), прямо соседствуя в моём пантеоне с Баратынским и Ходасевичем (а это уже лесть, хотя и с вопросом: за первого из Ваших товарищей по несчастью я спокоен — не знаю, не мешает ли Вам второй, столь на Вас непохожий). Ваш [машинописный] сборник «Тридцать страниц» попал ко мне что-то около двух месяцев назад, я взял его у Регины и принялся за него, не скрою, с некоторым предубеждением — а закрыл с восхищением. Разумеется, когда сам водишь пером по бумаге чуть не три десятилетия кряду, нельзя (мне, во всяком случае, не удаётся) принять какого-либо поэта (особенно современника — и, значит, соперника… хотя какое уж тут соперничество!) целиком, без изъятья: в этом смысле и Ваши стихи я принимаю (читайте: понимаю) не все и не до конца (будто до конца это возможно!). Но странно: многих ленинградцев, почти всю тысячу, я знаю давно, много лет, и таланту многих из них доверяю (в этом списке Валерий Скобло, А. Кушнер, Вл. Ханан, Зоя Эзрохи, Т. Костина, — Вы их могли видеть у Регины), и вот оказывается, что Вам я доверяю больше, и принимаю Вас с большей полнотой. Почти всюду Ваш вкус кажется мне безукоризненным (здесь спросим: вкус и талант — не одно ли это и то же?), интонация Ваших стихов — безошибочно верной, верной, значительной и очень мне близкой — Ваша ориентация во времени и в обществе. Не знаю, часто ли Вам признаются в любви читатели, да еще претендующие на некоторый профессионализм в литературе; должно быть, это приятно. И поверьте, я не бросаюсь на шею первому встречному поэту. Но обольщаться Вам нечем: я высказываю своё отношение к Вашим стихам, это не приговор, а я не В. Г. Белинский, развешивающий регистрационные ярлыки на ошейники русских классиков (которые калёным железом не вытравить из сознания потомков); количество и качество своих читателей Вы себе назначили сами… Перейдём к стихам. Пожалуй, больше всего мне нравится «Недописанное письмо» (Не о пирах, не о белых перчатках, стр. 23), — и здесь и далее цитирую на память, сейчас книги у меня нет, — настоящий шедевр, насколько мне дано знать; это роман, а точнее: мемуарная повесть, многоплановая, с глубокой ретроспективой… — и как хороши эти две паузы, вкрапленные в текст (Друг мой, ты помнишь ли те времена?, Как ты там, друг мой?… ), и, затем, некоторая отрешённость концовки (Край сей чудесный и дик, и суров), и начало… — ну, словом, всё. Мне не удалась отгадать ни отправителя «Письма», ни получателя, я недостаточно образован; хотя в первом мне отдалённо померещился В. К. Кюхельбеккер; но не важно, дело не в этом. Ещё хотел бы выделить вот что: В гордом храме Мельпомены; Жизнь штабс-капитана Кузьмина; Товарищ мой умер, и мы разбираем бумаги; Чаадаев, Степь; Всё в Грузии естественно, как жизнь (неправильность этой посылки не отменяет, но оттеняет принадлежность её большой поэзии), Пять женщин я люблю одновременно… и многое другое: я собираюсь ещё долго читать Вашу книгу, когда мне её вернут. К стихам, записанным сплошняком, пока ещё не знаю до конца, как отнестись; некоторые из них напоминают мне читанное Вами у Регины в 1972 (?) — и в связи с ними, особенно, мне хочется сказать следующее. Палитра Ваша необыкновенно богата, даже чрезмерно порой, тут проглядывает некое языческое изобилие, упоение жизнью, тут Ваша муза — неаполитанка или, быть может, Марджана из Тысяча и одной ночи, с кинжалом и виноградной лозой, — моя же (к слову, хотя и некстати) — горожанка и астеничка. Поэтому, вероятно, некоторые (но только некоторые) Ваши стихи кажутся мне избыточными, переувлажненными. Не взыщите; должен ведь и я Вам как-то рекомендоваться…
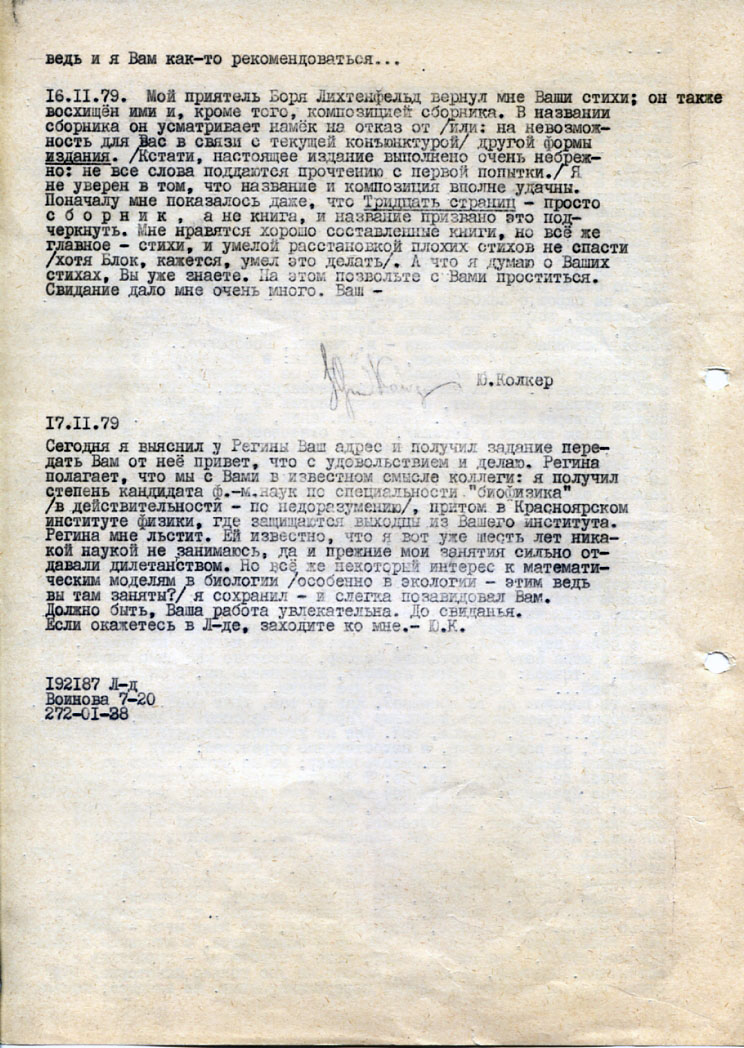
16.11.79. Мой приятель Боря Лихтенфельд вернул мне Ваши стихи; он также восхищён ими и, кроме того, композицией сборника. В названии сборника он усматривает намёк на отказ от (или: на невозможность для Вас в связи с текущей конъюнктурой) другой формы издания. (Кстати, настоящее издание выполнено очень небрежно: не все слова поддаются прочтению с первой попытки.) Я не уверен в том, что название и композиция вполне удачны. Поначалу мне показалось даже, что Тридцать страниц — просто сборник, а не книга, и название призвано это подчеркнуть. Мне нравятся хорошо составленные книги, но всё же главное — стихи, и умелой расстановкой плохих стихов не спасти (хотя Блок, кажется, умел это делать). А что я думаю о Ваших стихах, Вы уже знаете. На этом позвольте с Вами проститься. Свидание дало мне очень много. Ваш —
Ю.Колкер
17.11.79
Сегодня я выяснил у Регины Ваш адрес и получил задание передать Вам от неё привет, что с удовольствием и делаю. Регина полагает, что мы с Вами в известном смысле коллеги: я получил степень кандидата ф.-м.наук по специальности «биофизика» (в действительности — по недоразумению), притом в Красноярском институте физики, где защищаются выходцы из Вашего института. Регина мне льстит. Ей известно, что я вот уже шесть лет никакой наукой не занимаюсь, да и прежние мои занятия сильно отдавали дилетантством. Но всё же некоторый интерес к математическим моделям в биологии (особенно в экологии — этим ведь вы там заняты?) я сохранил — и слегка позавидовал Вам. Должно быть, Ваша работа увлекательна. До свиданья. Если окажетесь в Л-де, заходите ко мне. — Ю.К.
192187 Л-д
Воинова 7-20
272-01-38
Леопольду Викторовичу Эпштейну
346410 Новочеркасск
Фрунзе 55-8-31
25.12.79, Лд
Дорогой Лёня,
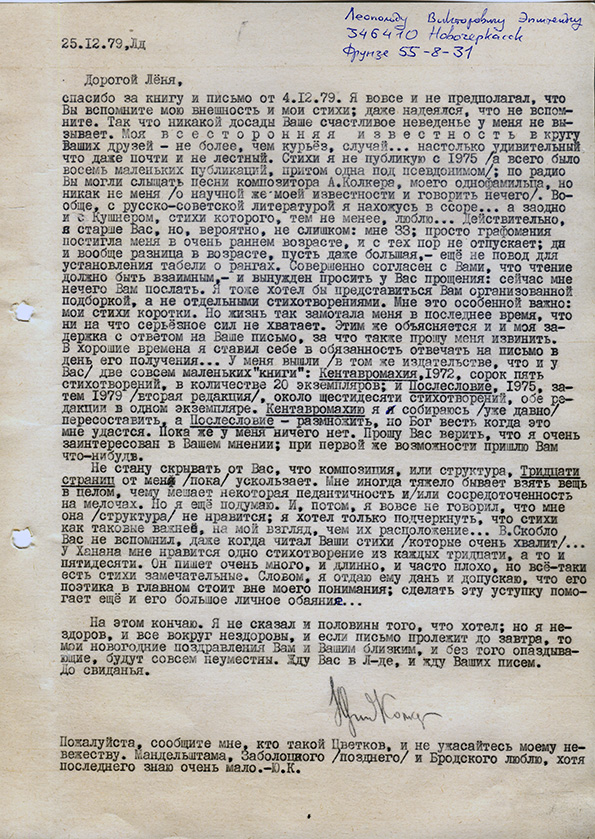
спасибо за книгу и письмо от 4.12.79. Я вовсе и не предполагал, что Вы вспомните мою внешность и мои стихи; даже надеялся, что не вспомните. Так что никакой досады Ваше счастливое неведенье у меня не вызывает. Моя всесторонняя известность в кругу Ваших друзей [Эпштейн спросил у себя в институте в Новочеркасске, кто такой Юрий Колкер; один ответил ему: ленинградский поэт, другой сказал: ленинградский биофизик] — не более, чем курьёз, случай… настолько удивительный что даже почти и не лестный. Стихи я не публикую с 1975 (а всего было восемь маленьких публикаций, притом одна под псевдонимом); по радио Вы могли слышать песни композитора А. Колкера, моего однофамильца, но никак не меня (о научной же моей известности и говорить нечего). Вообще, с русско-советской литературой я нахожусь в ссоре… а заодно и с Кушнером, стихи которого, тем не менее, люблю… Действительно, я старше Вас, но, вероятно, не слишком: мне 33; просто графомания постигла меня в очень раннем возрасте, и с тех пор не отпускает; да и вообще разница в возрасте, пусть даже большая, — ещё не повод для установления табели о рангах. Совершенно согласен с Вами, что чтение должно быть взаимным, — и вынужден просить у Вас прощения: сейчас мне нечего Вам послать. Я тоже хотел бы представиться Вам организованной подборкой, а не отдельными стихотворениями. Мне это особенной важно: мои стихи коротки. Но жизнь так замотала меня в последнее время, что ни на что серьёзное сил не хватает. Этим же объясняется и моя задержка с ответом на Ваше письмо, за что также прошу меня извинить. В хорошие времена я ставил себе в обязанность отвечать на письмо в день его получения… У меня вышли (в том же издательстве, что и у Вас [то есть в самиздате]) две совсем маленьких «книги»: Кентавромахия, 1972, сорок пять стихотворений, в количестве 20 экземпляров; и Послесловие, 1975, затем 1979 (вторая редакция), около шестидесяти стихотворений, обе редакции в одном экземпляре. Кентавромахию я собираюсь (уже давно) пересоставить, а Послесловие — размножить, но Бог весть когда это мне удастся. Пока же у меня ничего нет. Прошу Вас верить, что я очень заинтересован в Вашем мнении; при первой же возможности пришлю Вам что-нибудь.
Не стану скрывать от Вас, что композиция, или структура, Тридцати страниц от меня (пока) ускользает. Мне иногда тяжело бывает взять вещь в целом, чему мешает некоторая педантичность и/или сосредоточенность на мелочах. Но я ещё подумаю. И, потом, я вовсе не говорил, что мне она (структура) не нравится; я хотел только подчеркнуть, что стихи как таковые важнее, на мой взгляд, чем их расположение… В. Скобло Вас не вспомнил, даже когда читал Ваши стихи (которые очень хвалит)… У Ханана мне нравится одно стихотворение из каждых тридцати, а то и пятидесяти. Он пишет очень много, и длинно, и часто плохо, но всё-таки есть стихи замечательные. Словом, я отдаю ему дань и допускаю, что его поэтика в главном стоит вне моего понимания; сделать эту уступку помогает ещё и его большое личное обаяние…
На этом кончаю. Я не сказал и половины того, что хотел; но я нездоров, и все вокруг нездоровы, и если письмо пролежит до завтра, то мои новогодние поздравления Вам и Вашим близким, и без того опаздывающие, будут совсем неуместны. Жду Вас в Л-де, и жду Ваших писем. До свиданья.

Пожалуйста, сообщите мне, кто такой Цветков, и не ужасайтесь моему невежеству. Мандельштама, Заболоцкого (позднего) и Бродского люблю, хотя последнего знаю очень мало. — Ю. К.
|
Ю.Колкер: |
|
— |
|
29 сентября 1983 |
Л.Эпштейну
Фрунзе 55 корп 8 кв 31
Новочеркасск 346410
Дорогай Леня,
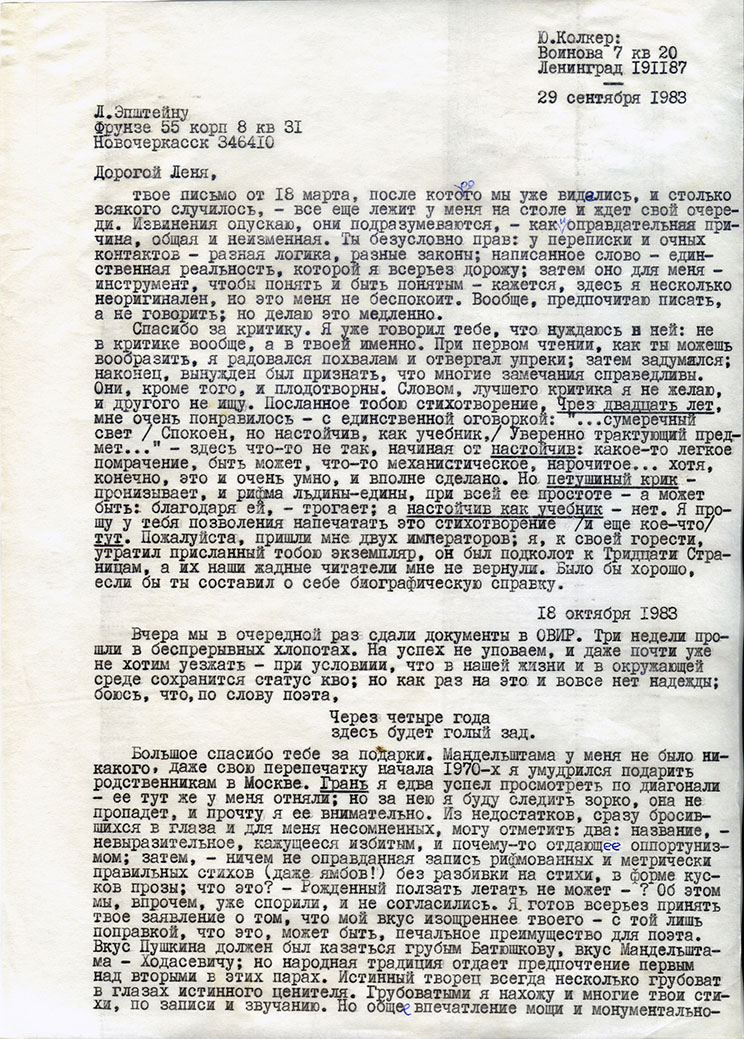
твое письмо от 18 марта, после которого мы уже виделись, и столько всякого случилось, — все еще лежит у меня на столе и ждет своей очереди. Извинения опускаю, они подразумеваются, — как и оправдательная причина, общая и неизменная. Ты безусловно прав: у переписки и очных контактов — разная логика, разные законы; написанное слово — единственная реальность, которой я всерьез дорожу; затем оно для меня — инструмент, чтобы понять и быть понятым — кажется, здесь я несколько неоригинален, но это меня не беспокоит. Вообще, предпочитаю писать, а не говорить; но делаю это медленно.
Спасибо за критику. Я уже говорил тебе, что нуждаюсь в ней: не в критике вообще, а в твоей именно. При первом чтении, как ты можешь вообразить, я радовался похвалам и отвергал упреки; затем задумался; наконец, вынужден был признать, что многие замечания справедливы. Они, кроме того, и плодотворны. Словом, лучшего критика я не желаю, и другого не ищу. Посланное тобою стихотворение, Чрез двадцать лет, мне очень понравилось — с единственной оговоркой: «…сумеречный свет / Спокоен, но настойчив, как учебник, / Уверенно трактующий предмет…» — здесь что-то не так, начиная от настойчив: какое-то легкое помрачение, быть может, что-то механистическое, нарочитое… хотя, конечно, это и очень умно, и вполне сделано. Но петушиный крик — пронизывает, и рифма льдины-едины, при всей ее простоте — а может быть: благодаря ей, — трогает; а настойчив как учебник — нет. Я прошу у тебя позволения напечатать это стихотворение (и еще кое-что) тут [в ленинградском самиздате]. Пожалуйста, пришли мне двух императоров; я, к своей горести, утратил присланный тобою экземпляр, он был подколот к Тридцати Страницам, а их наши жадные читатели мне не вернули. Было бы хорошо, если бы ты составил о себе биографическую справку.
18 октября 1983
Вчера мы в очередной [пятый] раз сдали документы в ОВИР. Три недели прошли в беспрерывных хлопотах. На успех не уповаем, и даже почти уже не хотим уезжать — при условии, что в нашей жизни и в окружающей среде сохранится статус кво; но как раз на это и вовсе нет надежды; боюсь, что, по слову поэта,
|
Через четыре года здесь будет голый зад. |
Большое спасибо тебе за подарки. Мандельштама у меня не было никакого, даже свою перепечатку начала 1970-х я умудрился подарить родственникам в Москве. Грань [макет книги Эпштейна] я едва успел просмотреть по диагонали — ее тут же у меня отняли; но за нею я буду следить зорко, она не пропадет, и прочту я ее внимательно. Из недостатков, сразу бросившихся в глаза и для меня несомненных, могу отметить два: название, — невыразительное, кажущееся избитым, и почему-то отдающее оппортунизмом; затем, — ничем не оправданная запись рифмованных и метрически правильных стихов (даже ямбов!) без разбивки на стихи, в форме кусков прозы; что это? — Рожденный ползать летать не может — ? Об этом мы, впрочем, уже спорили, и не согласились. Я готов всерьез принять твое заявление о том, что мой вкус изощреннее твоего — с той лишь поправкой, что это, может быть, печальное преимущество для поэта. Вкус Пушкина должен был казаться грубым Батюшкову, вкус Мандельштама — Ходасевичу; но народная традиция отдает предпочтение первым над вторыми в этих парах. Истинный творец всегда несколько грубоват в глазах истинного ценителя. Грубоватыми я нахожу и многие твои стихи, по записи и звучанию. Но общее впечатление мощи и монументальности твоего дара от этого едва ли не усиливается. Надеюсь, мне удастся написать о твоих стихах более подробно, это интересно и важно мне самому.
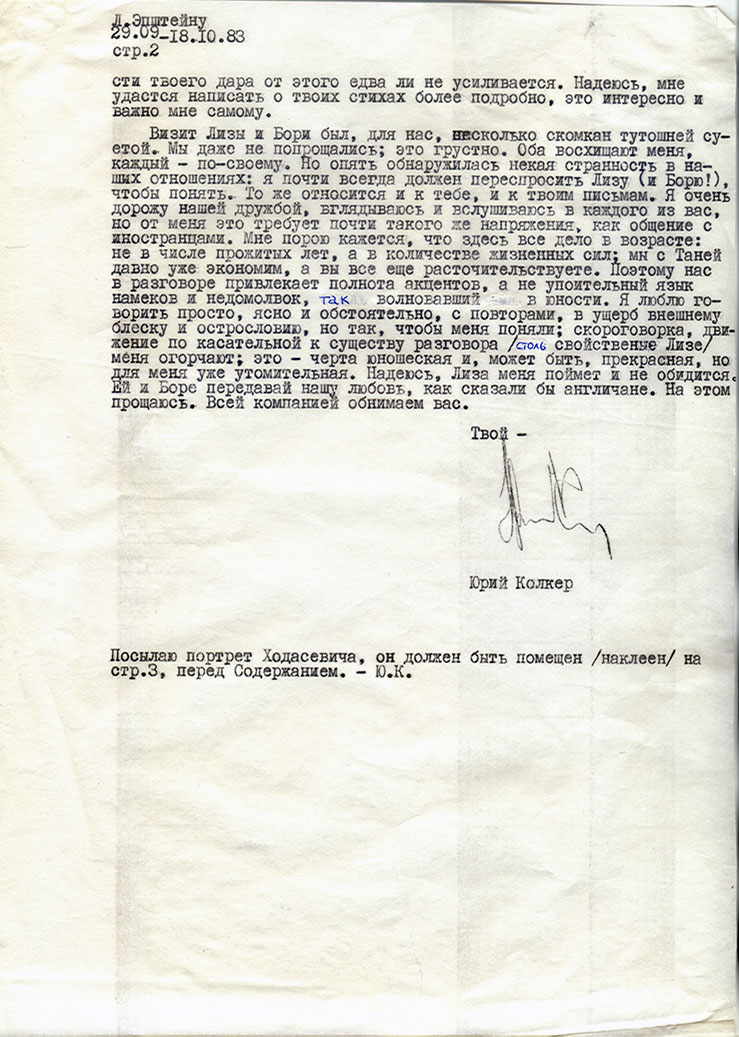
Визит Лизы и Бори [жены и сына Леопольда Эпштейна] был, для нас, несколько скомкан тутошней суетой. Мы даже не попрощались; это грустно. Оба восхищают меня, каждый — по-своему. Но опять обнаружилась некая странность в наших отношениях: я почти всегда должен переспросить Лизу (и Борю!), чтобы понять. То же относится и к тебе, и к твоим письмам. Я очень дорожу нашей дружбой, вглядываюсь и вслушиваюсь в каждого из вас, но от меня это требует почти такого же напряжения, как общение с иностранцами. Мне порою кажется, что здесь все дело в возрасте: не в числе прожитых лет, а в количестве жизненных сил: мы с Таней давно уже экономим, а вы все еще расточительствуете. Поэтому нас в разговоре привлекает полнота акцентов, а не упоительный язык намеков и недомолвок, так волновавший в юности. Я люблю говорить просто, ясно и обстоятельно, с повторами, в ущерб внешнему блеску и острословию, но так, чтобы меня поняли; скороговорка, движение по касательной к существу разговора (столь свойственные Лизе) меня огорчают; это — черта юношеская и, может быть, прекрасная, но для меня уже утомительная. Надеюсь, Лиза меня поймет и не обидится. Ей и Боре передавай нашу любовь, как сказали бы англичане. На этом прощаюсь. Всей компанией обнимаем вас.
Твой —
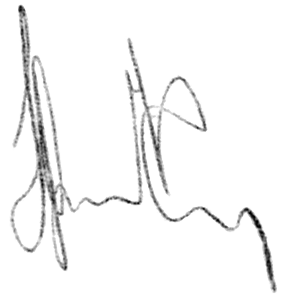
Юрий Колкер
Посылаю портрет Ходасевича, он должен быть помещен (наклеен) на стр. 3, перед Содержанием [Речь идёт о фотографическом (переснятом, конечно) портрете Ходасевича, который я прошу вклеить в машинописный (формата А4) том собрания стихов Ходасевича. Это собрание я подготовил и выпустил в ленинградском самиздате, а затем оно было пререпечатано в Париже. Когда я дарил этот том Эпштейну во время нашей встречи в Ленинграде, фотография ещё не была готова.]. — Ю. К.
В своём (ответном?) письме от 24.12.1983 Эпштейн критикует мой Антивенок. Я дорожил его критикой, хотел внимательно её перечитывать… и не мог — из-за неразборчивого почерка моего корреспондента. Поэтому в марте 1984 года я законспектировал письмо Эпштейна. Письмо утрачено (его не удалось взять с собою в эмиграцию в июне 1984 года), а конспект сохранился. В нём буквой М обозначен магистрал венка (он у меня идёт вначале Антивенка), а числа от 1 до 14 с точкой — номерам сонетов. Вот этот конспект 1984 года:
«Эпштейн об Антивенке
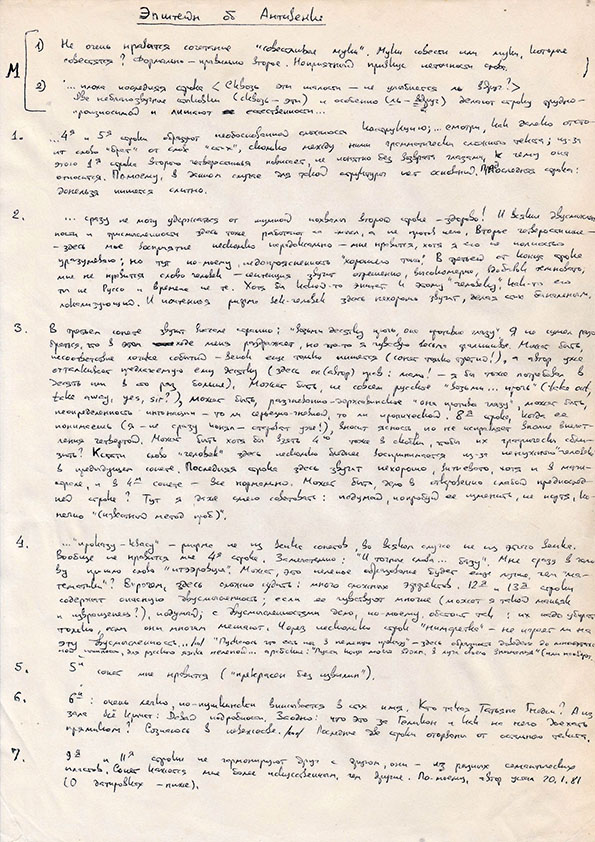
М 1) Не очень нравится сочетание «совестливые муки». Муки совести или муки, которые совестятся? Формально — правильно второе. Неприятный привкус неточности слова.
М 2) … плоха последняя строка [«Сквозь эти шалости — не улыбнется ль вдруг?»]. Две неблагозвучные стыковки (сквозь-эти) и особенно (ль-вдруг) делают строку труднопроизносимой и лишают естественности…
1. 4я и 5я строки образуют необоснованной сложности конструкцию; …смотри, как далеко отстоит слово «брат» от слова «стих», сколько между ними грамматически сложного текста; из-за этого 1я строка второго четверостишья повисает, не понятно без возврата глазами, к чему она относится. По-моему, в данном случае для такой структуры нет оснований. Предпоследняя строка: донельзя пишется слитно.
2. … сразу не могу удержаться от шумной похвалы второй строке — здорово [«Мы к формам тянемся, едва утратим форму»]! И всякие двусмысленности и трисмысленности здесь работают на смысл, а не против него. Второе четверостишье — здесь моё восприятие несколько парадоксально — мне нравится, хотя я его не полностью уразумеваю; но тут, по-моему, недопроясненность «хорошего тона». В третьей от конца строке мне не нравится слово человек — сентенция звучит отрешенно, высокомерно, вдобавок темновато, ты не Руссо и времена не те.. Хотя бы какой-то эпитет к этому «человеку», как-то его локализующий. И последняя рифма век-человек здесь нехорошо звучит, делая стих банальным.
3. В третьем сонете звучит вначале странно: «возьми десятку прочь, она противна глазу». Я не сумел разобраться, что в этом ходе меня раздражает, но что-то я чувствую весьма фальшивое. Может быть, несоответствие логике событий — венок еще только пишется (сонет только третий!), а автор уже отталкивает предлагаемую ему десятку (здесь он (автор) прав: мало! — я бы тоже потребовал в десять или в сто раз больше). Может быть, не совсем русское «возьми… прочь» (take out, take away, yes, sir?), может быть разгневанно-державинское «она противна глазу», может быть, неопределенность интонации — то ли серьезно-гневной, то ли иронической. 8я строка, когда ее понимаешь (я — не сразу понял — староват уже!), вносит ясность, но не исправляет вполне впечатления четвертой. Может быть хотя бы взять 4ю тоже в скобки, чтобы их графически сблизить? Кстати, слово «человек» здесь несколько бледнее воспринимается из-за ненужного «человека» в предыдущем сонете. Последняя строка здесь звучит нехорошо, витиевато, хотя и в магистрале, и в 4м — все нормально. Может быть, дело в откровенно слабой предпоследней строке? Тут я даже смею советовать: подумай, попробуй ее изменить, не портя, конечно «(известный метод проб)».
4. … «проказу-квасу» — рифма не из венка сонетов, во всяком случае не из этого венка. Вообще не нравится мне 4я строка [«Мечту на вкус и цвет уподобляя квасу»]. Замечательно: «И точные слова… [являются сюда, / Как математики на овощную] базу». Мне сразу в голову пришло слово «итээровцы». Может, это нелепое образование будет еще лучше, чем «математики»? Впрочем, здесь сложно судить: много сложных эффектов. 12я и 13я строки содержат опасную двусмысленность [мастурбацию?]; если её чувствуют многие (может, я такой маньяк и извращенец?), подумай; с двусмыслицами дело, по-моему, обстоит так: их нужно убирать, только если они многим мешают. Через несколько строк «нимфетка» — не играет ли на эту двусмысленность… /…/ «Пускаюсь что есть ног в нелепую проказу» — здесь образность доведена до многоэтажной пышности, для русского языка нелепой… арабские: «Пусти коня своего вдохн. в луга своего внимания» (или наоборот…).
5. 5й сонет мне нравится («прекрасен без извилин»).
6. 6й: очень легко, по-пушкински вписывается в стих имя. Кто такая Татьяна Гнедич? А из зала всё кричат: давай подробности. Заодно: что это за Геликон и как на него доехать прямиком? Сознаюсь в невежестве /…/ Последние две строки оторваны от остального текста.
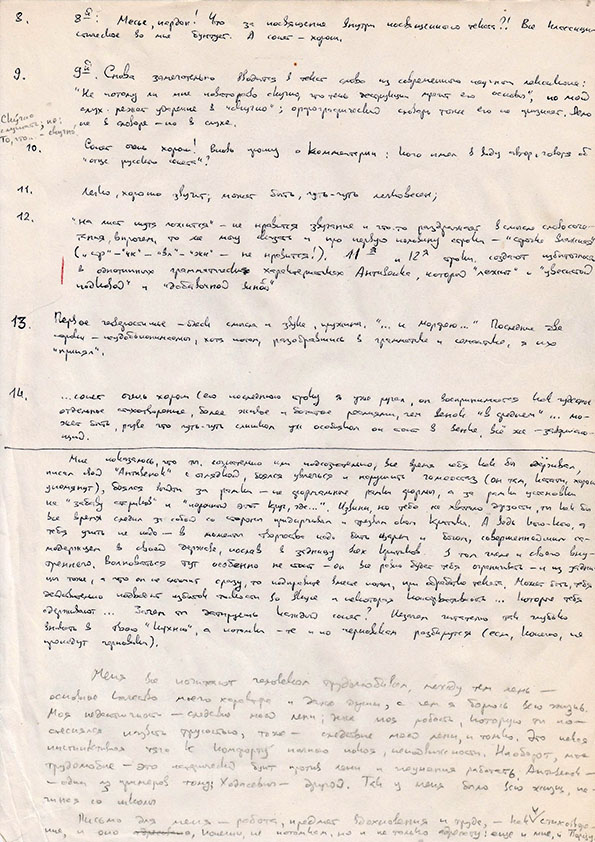
7. 9я и 11я строки не гармонируют друг с другом, они — из разных семантических пластов. Сонет кажется мне более искусственным, чем другие. По-моему, автор устал 20.1.81 (о датировках — ниже).
8. 8й. Месье, пардон! что за посвящение внутри посвященного текста?! Все классическое во мне бунтует. А сонет — хорош.
9. 9й. Снова замечательно вводится в текст слово из современного научного лексикона: «Не потому ли мне новаторство скучно, что тень деструкции мрачит его основы», но мой слух режет ударение в «скучно»; орфографический словарь тоже его не признает. Дело не в словаре — но в слухе. [моя приписка 1984 года на полях: Ску́чно слушать; но: То, что… скучно́.]
10. Сонет очень хорош! Вновь прошу о комментарии: кого имел в виду автор, говоря об «отце русского сонета»?
11. Легко, хорошо звучит, может быть, чуть-чуть легковесен; …
12. «на лист шутя ложится» — не нравится звучание и что-то раздражает в смысле словосочетания, впрочем, то же могу сказать и про первую половину строки — «строчка влажная» («стр»—«чк»—«вл»—«жн» — не нравится!). 11я и 12я строки создают избыточность в однотипных грамматических характеристиках Антивенка, который «лежит» и «увесистой подковой» и «добавочной виной».
13. Первое четверостишье — блеск смысла и звука, пружина «… к Морфею…» Последние две строки — неудобопонимаемы, хотя потом, разобравшись в грамматике и семантике, я их «принял».
14. … сонет очень хорош (его последнюю строку я уже ругал), он воспринимается как чудесное отдельное стихотворение, более живое и богатое реалиями, чем венок «в среднем» … может быть, разве что чуть-чуть слишком особняком он стоит в венке, всё же — завершающий.
Мне показалось, что ты, сознательно или подсознательно, все время себя как бы одёргивал, писал свой «Антивенок» с оглядкой, боялся увлечься и нарушить гомеостаз (он там, кстати, хорошо упомянут), боялся выйти за рамки — не формальные рамки формы, а за рамки установки на «забаву стариков» и «порочный этот круг, где…» Извини, но тебе не хватило дерзости, ты как бы все время следил за собой со стороны придирчивым и трезвым оком критика. А ведь кого-кого, а тебя учить не надо — в моменты творчества надо быть царем и богом, совершеннейшим самодержцем в своей державе, послав в задницу всех критиков, в том числе и своего внутреннего. Волноваться тут особенно не стоит — он все равно будет тебя ограничивать — и из задницы тоже, а что он не слышит сразу, то подправите вместе потом, при обработке текста. Может быть, тебя действительно подводит избыток тонкости во вкусе и некоторая консервативность… которые тебя сдерживают… Зачем ты датируешь каждый сонет? Незачем читателю так глубоко вникать в твою «кухню», а потомки — те и по черновикам разберутся (если, конечно, не пропадут черновики).»
Дальше — мой карандашный набросок ответа, повторённый несколько иначе в приведённом ниже письме:
«Меня все почитают человеком трудолюбивым, между тем лень — основное качество моего характера и даже души, с чем я борюсь всю жизнь. Моя педантичность — следствие моей лени; даже моя робость, которую ты постеснялся назвать трусостью, тоже — следствие моей лени, и только. Наоборот, мое трудолюбие — это истерический бунт против лени и неумения работать. Антивенок — один из примеров тому; Ходасевич — другой. Так у меня было всю жизнь, начиная со школы.
Письмо для меня — работа, предмет вдохновения и труда, — как и стихотворение, и оно адресовано, конечно, не потомкам, но и не только адресату: еще и мне, и Творцу. (…)»
|
Юрий Колкер: Воинова 7 кв 20 |
|
17 марта 1984 |
Л.Эпштейну
Фрунзе 55-8-31
Новочеркасск 346410
Дорогой Леня,
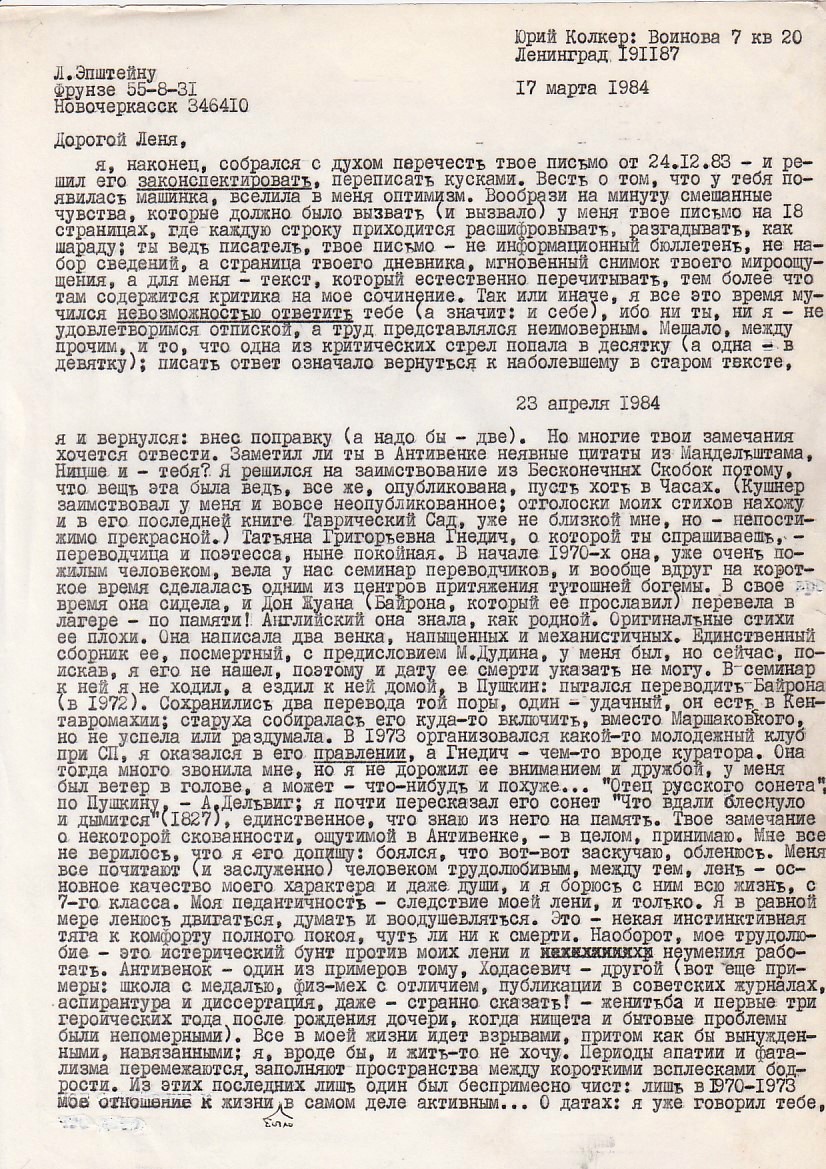
я, наконец, собрался с духом перечесть твое письмо от 24.12.83 — и решил его законспектировать, переписать кусками. Весть о том, что у тебя появилась машинка, вселила в меня оптимизм. Вообрази на минуту смешанные чувства, которые должно было вызвать (и вызвало) у меня твое письмо на 18 страницах, где каждую строку приходится расшифровывать, разгадывать, как шараду; ты ведь писатель, твое письмо — не информационный бюллетень, не набор сведений, а страница твоего дневника, мгновенный снимок твоего мироощущения, а для меня — текст, который естественно перечитывать, тем более что там содержится критика на мое сочинение. Так или иначе, я все это время мучился невозможностью ответить тебе (а значит: и себе), ибо ни ты, ни я — не удовлетворимся отпиской, а труд представлялся неимоверным. Мешало, между прочим, и то, что одна из критических стрел попала в десятку (а одна — в девятку); писать ответ означало вернуться к наболевшему в старом тексте,
23 апреля 1984
я и вернулся: внес поправку (а надо бы — две). Но многие твои замечания хочется отвести. Заметил ли ты в Антивенке неявные цитаты из Мандельштама, Ницше и — тебя? Я решился на заимствование из Бесконечных Скобок [сочинение Эпштейна] потому, что вещь эта была ведь, все же, опубликована, пусть хоть в Часах [ленинградский машинописный журнал]. (Кушнер заимствовал у меня и вовсе неопубликованное; отголоски моих стихов нахожу и в его последней книге Таврический Сад, уже не близкой мне, но — непостижимо прекрасной.) Татьяна Григорьевна Гнедич, о которой ты спрашиваешь, — переводчица и поэтесса, ныне покойная. В начале 1970-х она, уже очень пожилым человеком, вела у нас семинар переводчиков, и вообще вдруг на короткое время сделалась одним из центров притяжения тутошней богемы. В свое время она сидела, и Дон Жуана (Байрона, который ее прославил) перевела в лагере — по памяти! Английский она знала, как родной. Оригинальные стихи ее плохи. Она написала два венка, напыщенных и механистичных. Единственный сборник ее, посмертный, с предисловием М. Дудина, у меня был, но сейчас, поискав, я его не нашел, поэтому и дату ее смерти указать не могу. В семинар к ней я не ходил, а ездил к ней домой, в Пушкин: пытался переводить Байрона (в 1972). Сохранились два перевода той поры, один — удачный, он есть в Кентавромахии; старуха собиралась его куда-то включить, вместо Маршаковкого, но не успела или раздумала. В 1973 организовался какой-то молодежный клуб при СП, я оказался в его правлении, а Гнедич — чем-то вроде куратора. Она тогда много звонила мне, но я не дорожил ее вниманием и дружбой, у меня был ветер в голове, а может — что-нибудь и похуже… «Отец русского сонета», по Пушкину, — А. Дельвиг; я почти пересказал его сонет «Что вдали блеснуло и дымится» (1827), единственное, что знаю из него на память. Твое замечание о некоторой скованности, ощутимой в Антивенке, — в целом, принимаю. Мне все не верилось, что я его допишу: боялся, что вот-вот заскучаю, обленюсь. Меня все почитают (и заслуженно) человеком трудолюбивым, между тем, лень — основное качество моего характера и даже души, и я борюсь с ним всю жизнь, с 7-го класса. Моя педантичность — следствие моей лени, и только. Я в равной мере ленюсь двигаться, думать и воодушевляться. Это — некая инстинктивная тяга к комфорту полного покоя, чуть ли ни к смерти. Наоборот, мое трудолюбие — это истерический бунт против моих лени и неумения работать. Антивенок — один из примеров тому, Ходасевич — другой (вот еще примеры: школа с медалью, физ-мех с отличием, публикации в советских журналах, аспирантура и диссертация, даже — странно сказать! — женитьба и первые три героических года после рождения дочери, когда нищета и бытовые проблемы были непомерными). Все в моей жизни идет взрывами, притом как бы вынужденными, навязанными; я, вроде бы, и жить-то не хочу. Периоды апатии и фатализма перемежаются, заполняют пространства между короткими всплесками бодрости. Из этих последних лишь один был беспримесно чист: лишь в 1970-1973 мое отношение к жизни было в самом деле активным… О датах: я уже говорил тебе, что дата для меня — это END программы, без нее стихотворение не закончено, не работает, — о чьих бы стихах речь ни шла. Я долго приучал себя к манере твоей и Кушнера. Мои стихи я датирую для меня же — и, одновременно, для читателя идеального, в жизни невоплотимого. Нечто похожее происходит и с письмами: я пишу тебе — и одновременно еще в два адреса [то есть себе и Творцу, как это видно из приведённого выше наброска]. Потомки здесь ни при чем, они ведь тоже — реальны, и потому интересны разве лишь отчасти. Письмо, как и стихи, — предмет вдохновения и труда, без этого и писать не стоит. Но и становясь реальным читателем чужих (и старых моих) стихов, я нуждаюсь в дате под ними.
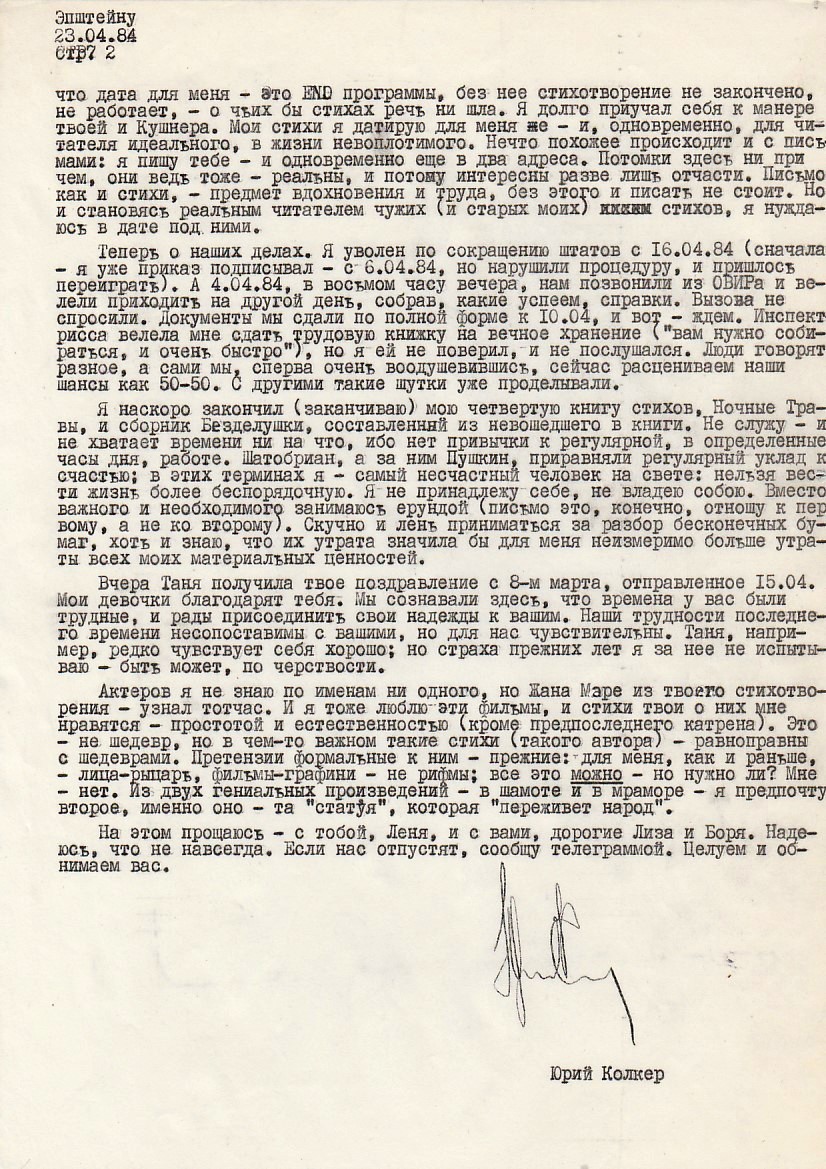
Теперь о наших делах. Я уволен [из котельной ленинградского кино-механического завода, находившейся в Уткиной даче] по сокращению штатов с 16.04.84 (сначала — я уже приказ подписывал — с 6.04.84, но нарушили процедуру, и пришлось переиграть). А 4.04.84, в восьмом часу вечера, нам позвонили из ОВИРа и велели приходить на другой день, собрав, какие успеем, справки. Вызова не спросили. Документы мы сдали по полной форме к 10.04, и вот — ждем. Инспектриса велела мне сдать трудовую книжку на вечное хранение («вам нужно собираться, и очень быстро»), но я ей не поверил, и не послушался. Люди говорят разное, а сами мы, сперва очень воодушевившись, сейчас расцениваем наши шансы как 50-50. С другими такие шутки уже проделывали.
Я наскоро закончил (заканчиваю) мою четвертую книгу стихов, Ночные Травы [вышла спустя девять лет в Ленинграде (!) под названием Завет и тяжба], и сборник Безделушки, составленный из невошедшего в книги. Не служу — и не хватает времени ни на что, ибо нет привычки к регулярной, в определенные часы дня, работе. Шатобриан, а за ним Пушкин, приравняли регулярный уклад счастью; в этих терминах я — самый несчастный человек на свете: нельзя вести жизнь более беспорядочную. Я не принадлежу себе, не владею собою. Вместо важного и необходимого занимаюсь ерундой (письмо это, конечно, отношу к первому, а не ко второму). Скучно и лень приниматься за разбор бесконечных бумаг, хоть и знаю, что их утрата значила бы для меня неизмеримо больше утраты всех моих материальных ценностей.
Вчера Таня получила твое поздравление с 8-м марта, отправленное 15.04. Мои девочки благодарят тебя. Мы сознавали здесь, что времена у вас были трудные, и рады присоединить свои надежды к вашим. Наши трудности последнего времени несопоставимы с вашими, но для нас чувствительны. Таня, например, редко чувствует себя хорошо; но страха прежних лет я за нее не испытываю — быть может, по черствости.
Актеров я не знаю по именам ни одного, но Жана Маре из твоего стихотворения — узнал тотчас. И я тоже люблю эти фильмы, и стихи твои о них мне нравятся — простотой и естественностью (кроме предпоследнего катрена). Это — не шедевр, но в чем-то важном такие стихи (такого автора) — равноправны с шедеврами. Претензии формальные к ним — прежние: для меня, как и раньше, — лица-рыцарь, фильмы-графини — не рифмы; все это можно — но нужно ли? Мне — нет. Из двух гениальных произведений — в шамоте и в мраморе — я предпочту второе, именно оно — та «стату́я», которая «переживет народ» [Эредиа в переводе Гумилёва: «Стату́я / Переживет народ»].
На этом прощаюсь — с тобой, Леня, и с вами, дорогие Лиза и Боря. Надеюсь, что не навсегда. Если нас отпустят, сообщу телеграммой. Целуем и обнимаем вас.

Юрий Колкер
36/4 Ha-Arba’a St
Pisgat Ze'ev, Jerusalem
20 марта 1988, Иерусалим
Дорогой Лёня,
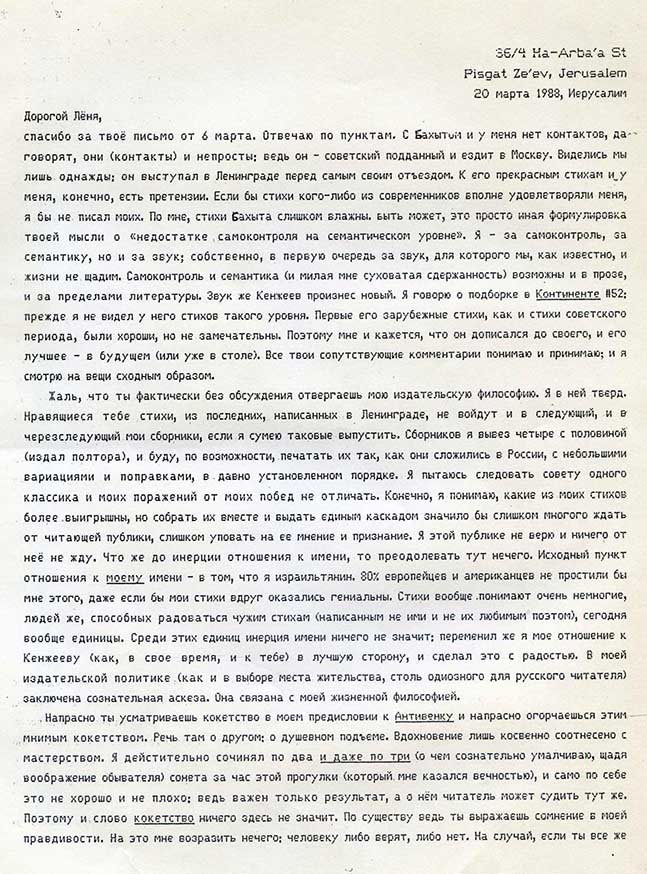
спасибо за твоё письмо от 6 марта. Отвечаю по пунктам. С Бахытом [Кинжеевым] и у меня нет контактов, да говорят, они (контакты) и непросты; ведь он — советский подданный и ездит в Москву. Виделись мы лишь однажды; он выступал в Ленинграде перед самым своим отъездом. К его прекрасным стихам и у меня, конечно, есть претензии. Если бы стихи кого-либо из современников вполне удовлетворяли меня, я бы не писал моих. По мне, стихи Бахыта слишком влажны, быть может, это просто иная формулировка твоей мысли о «недостатке самоконтроля на семантическом уровне». Я — за самоконтроль, за семантику, но и за звук; собственно, в первую очередь за звук, для которого мы, как известно, и жизни не щадим. Самоконтроль и семантика (и милая мне суховатая сдержанность) возможны и в прозе, и за пределами литературы. Звук же Кенжеев произнес новый. Я говорю о подборке в Континенте №52; прежде я не видел у него стихов такого уровня. Первые его зарубежные стихи, как и стихи советского периода, были хороши, но не замечательны. Поэтому мне и кажется, что он дописался до своего, и его лучшее — в будущем (или уже в столе). Все твои сопутствующие комментарии понимаю и принимаю; и я смотрю на вещи сходным образом.
Жаль, что ты фактически без обсуждения отвергаешь мою издательскую философию [она состояла в том, чтобы издавать не лучшие стихи, а сложившиеся в самиздате книги, даже давние]. Я в ней тверд. Нравящиеся тебе [мои] стихи, из последних, написанных в Ленинграде, не войдут и в следующий, и в черезследующий мои сборники, если я сумею таковые выпустить. Сборников я вывез четыре с половиной (издал полтора) [Послесловие и Антивенок], и буду, по возможности, печатать их так, как они сложились в России, с небольшими вариациями и поправками, в давно установленном порядке. Я пытаюсь следовать совету одного классика и моих поражений от моих побед не отличать. Конечно, я понимаю, какие из моих стихов более выигрышны, но собрать их вместе и выдать единым каскадом значило бы слишком многого ждать от читающей публики, слишком уповать на ее мнение и признание. Я этой публике не верю и ничего от неё не жду. Что же до инерции отношения к имени, то преодолевать тут нечего. Исходный пункт отношения к моему имени — в том, что я израильтянин. 80% европейцев и американцев не простили бы мне этого, даже если бы мои стихи вдруг оказались гениальны. Стихи вообще понимают очень немногие, людей же, способных радоваться чужим стихам (написанным не ими и не их любимым поэтом), сегодня вообще единицы. Среди этих единиц инерция имени ничего не значит; переменил же я мое отношение к Кенжееву (как, в свое время, и к тебе) в лучшую сторону, и сделал это с радостью. В моей издательской политике (как и в выборе места жительства, столь одиозного для русского читателя) заключена сознательная аскеза. Она связана с моей жизненной философией.
Напрасно ты усматриваешь кокетство в моем предисловии к Антивенку и напрасно огорчаешься этим мнимым кокетством. Речь там о другом: о душевном подъеме. Вдохновение лишь косвенно соотнесено с мастерством. Я действительно сочинял по два и даже по три (о чем сознательно умалчиваю, щадя воображение обывателя) сонета за час этой прогулки (который, мне казался вечностью), и само по себе это не хорошо и не плохо; ведь важен только результат, а о нём читатель может судить тут же. Поэтому и слово кокетство ничего здесь не значит. По существу ведь ты выражаешь сомнение в моей правдивости. На это мне возразить нечего; человеку либо верят, либо нет.
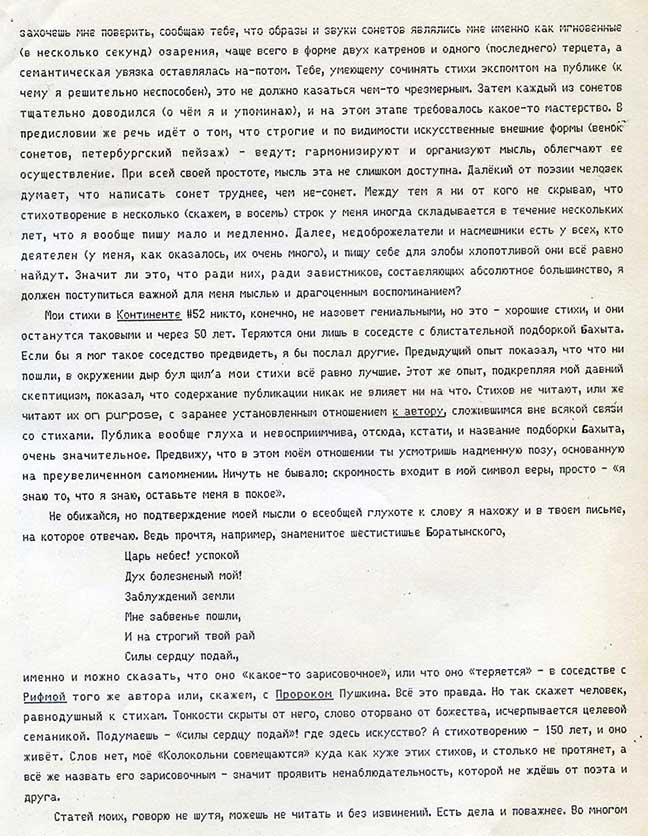 На случай, если ты все же захочешь мне поверить, сообщаю тебе, что образы и звуки сонетов являлись мне именно как мгновенные (в несколько секунд) озарения, чаще всего в форме двух катренов и одного (последнего) терцета, а семантическая увязка оставлялась на-потом. Тебе, умеющему сочинять стихи экспромтом на публике (к чему я решительно неспособен), это не должно казаться чем-то чрезмерным. Затем каждый из сонетов тщательно доводился (о чём я и упоминаю), и на этом этапе требовалось какое-то мастерство. В предисловии же речь идёт о том, что строгие и по видимости искусственные внешние формы (венок сонетов, петербургский пейзаж) — ведут: гармонизируют и организуют мысль, облегчают ее осуществление. При всей своей простоте, мысль эта не слишком доступна. Далёкий от поэзии человек думает, что написать сонет труднее, чем не-сонет. Между тем я ни от кого не скрываю, что стихотворение в несколько (скажем, в восемь) строк у меня иногда складывается в течение нескольких лет, что я вообще пишу мало и медленно. Далее, недоброжелатели и насмешники есть у всех, кто деятелен (у меня, как оказалось, их очень много), и пищу себе для злобы хлопотливой [из Боратынского] они всё равно найдут. Значит ли это, что ради них, ради завистников, составляющих абсолютное большинство, я должен поступаться важной для меня мыслью и драгоценными воспоминаниями?
На случай, если ты все же захочешь мне поверить, сообщаю тебе, что образы и звуки сонетов являлись мне именно как мгновенные (в несколько секунд) озарения, чаще всего в форме двух катренов и одного (последнего) терцета, а семантическая увязка оставлялась на-потом. Тебе, умеющему сочинять стихи экспромтом на публике (к чему я решительно неспособен), это не должно казаться чем-то чрезмерным. Затем каждый из сонетов тщательно доводился (о чём я и упоминаю), и на этом этапе требовалось какое-то мастерство. В предисловии же речь идёт о том, что строгие и по видимости искусственные внешние формы (венок сонетов, петербургский пейзаж) — ведут: гармонизируют и организуют мысль, облегчают ее осуществление. При всей своей простоте, мысль эта не слишком доступна. Далёкий от поэзии человек думает, что написать сонет труднее, чем не-сонет. Между тем я ни от кого не скрываю, что стихотворение в несколько (скажем, в восемь) строк у меня иногда складывается в течение нескольких лет, что я вообще пишу мало и медленно. Далее, недоброжелатели и насмешники есть у всех, кто деятелен (у меня, как оказалось, их очень много), и пищу себе для злобы хлопотливой [из Боратынского] они всё равно найдут. Значит ли это, что ради них, ради завистников, составляющих абсолютное большинство, я должен поступаться важной для меня мыслью и драгоценными воспоминаниями?
Мои стихи в Континенте №52 никто, конечно, не назовет гениальными, но это — хорошие стихи, и они останутся таковыми и через 50 лет. Теряются они лишь в соседстве с блистательной подборкой Бахыта. Если бы я мог такое соседство предвидеть, я бы послал другие. Предыдущий опыт показал, что что́ ни пошли, в окружении дыр бул щил'а мои стихи всё равно лучшие. Этот же опыт, подкрепляя мой давний скептицизм, показал, что содержание публикации никак не влияет ни на что. Стихов не читают, или же читают их on purpose, с заранее установленным отношением к автору, сложившимся вне всякой связи со стихами. Публика вообще глуха и невосприимчива, отсюда, кстати, и название подборки Бахыта [«Один не услышит, другой не поймёт»], очень значительное. Предвижу, что в этом моём отношении ты усмотришь надменную позу, основанную на преувеличенном самомнении. Ничуть не бывало; скромность входит в мой символ веры, просто — «я знаю то, что я знаю, оставьте меня в покое».
Не обижайся, но подтверждение моей мысли о всеобщей глухоте к слову я нахожу и в твоем письме, на которое отвечаю. Ведь прочтя, например, знаменитое шестистишье Боратынского,
|
Царь небес! успокой Дух болезненный мой! Заблуждений земли Мне забвенье пошли, И на строгий твой рай Силы сердцу подай., |
именно и можно сказать, что оно «какое-то зарисовочное», или что оно «теряется» — в соседстве с Рифмой того же автора или, скажем, с Пророком Пушкина. Всё это правда. Но так скажет человек, равнодушный к стихам. Тонкости скрыты от него, слово оторвано от божества, исчерпывается целевой семантикой. Подумаешь — «силы сердцу подай»! где здесь искусство? А стихотворению — 150 лет, и оно живёт. Слов нет, моё «Колокольни совмещаются» куда как хуже этих стихов, и столько не протянет, а всё же назвать его зарисовочным — значит проявить ненаблюдательность, которой не ждёшь от поэта и друга.
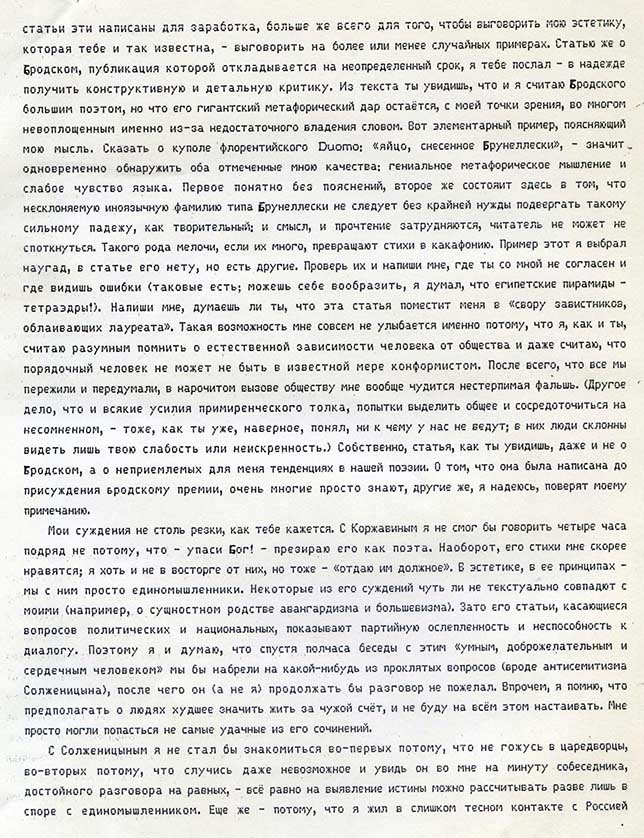
Статей моих, говорю не шутя, можешь не читать и без извинений. Есть дела и поважнее. Во многом статьи эти написаны для заработка, больше же всего для того, чтобы выговорить мою эстетику, которая тебе и так известна, — выговорить на более или менее случайных примерах. Статью же о Бродском, публикация которой откладывается на неопределенный срок, я тебе послал — в надежде получить конструктивную и детальную критику. Из текста ты увидишь, что и я считаю Бродского большим поэтом, но что его гигантский метафорический дар остаётся, с моей точки зрения, во многом невоплощенным именно из-за недостаточного владения словом. Вот элементарный пример, поясняющий мою мысль. Сказать о куполе флорентийского Duomo: «яйцо, снесенное Брунеллески», — значит, одновременно обнаружить оба отмеченные мною качества: гениальное метафорическое мышление и слабое чувство языка. Первое понятно без пояснений, второе же состоит здесь в том, что несклоняемую иноязычную фамилию типа Брунеллески не следует без крайней нужды подвергать такому сильному падежу, как творительный: и смысл, и прочтение затрудняются, читатель не может не споткнуться. Такого рода мелочи, если их много, превращают стихи в какофонию. Пример этот я выбрал наугад, в статье его нету, но есть другие. Проверь их и напиши мне, где ты со мной не согласен и где видишь ошибки (таковые есть; можешь себе вообразить, я думал, что египетские пирамиды — тетраэдры!). Напиши мне, думаешь ли ты, что эта статья поместит меня в «свору завистников, облаивающих лауреата». Такая возможность мне совсем не улыбается именно потому, что я, как и ты, считаю разумным помнить о естественной зависимости человека от общества и даже считаю, что порядочный человек не может не быть в известной мере конформистом. После всего, что все мы пережили и передумали, в нарочитом вызове обществу мне вообще чудится нестерпимая фальшь. (Другое дело, что и всякие усилия примиренческого толка, попытки выделить общее и сосредоточиться на несомненном, — тоже, как ты уже, наверное, понял, ни к чему у нас не ведут; в них люди склонны видеть лишь твою слабость или неискренность.) Собственно, статья, как ты увидишь, даже и не о Бродском, а о неприемлемых для меня тенденциях в нашей поэзии. О том, что она была написана до присуждения Бродскому премии, очень многие просто знают, другие же, я надеюсь, поверят моему примечанию.
Мои суждения не столь резки, как тебе кажется. С Коржавиным я не смог бы говорить четыре часа подряд не потому, что — упаси Бог! — презираю его как поэта. Наоборот, его стихи мне скорее нравятся; я хоть и не в восторге от них, но тоже — «отдаю им должное». В эстетике, в ее принципах — мы с ним просто единомышленники. Некоторые из его суждений чуть ли не текстуально совпадают с моими (например, о сущностном родстве авангардизма и большевизма). Зато его статьи, касающиеся вопросов политических и национальных, показывают партийную ослепленность и неспособность к диалогу. Поэтому я и думаю, что спустя полчаса беседы с этим «умным, доброжелательным и сердечным человеком» мы бы набрели на какой-нибудь из проклятых вопросов (вроде антисемитизма Солженицына), после чего он (а не я) продолжать бы разговор не пожелал. Впрочем, я помню, что предполагать о людях худшее значит жить за чужой счёт, и не буду на всём этом настаивать. Мне просто могли попасться не самые удачные из его сочинений.
С Солженицыным я не стал бы знакомиться во-первых потому, что не гожусь в царедворцы, во-вторых потому, что случись даже невозможное и увидь он во мне на минуту собеседника, достойного разговора на равных, — всё равно на выявление истины можно рассчитывать разве лишь в споре с единомышленником.
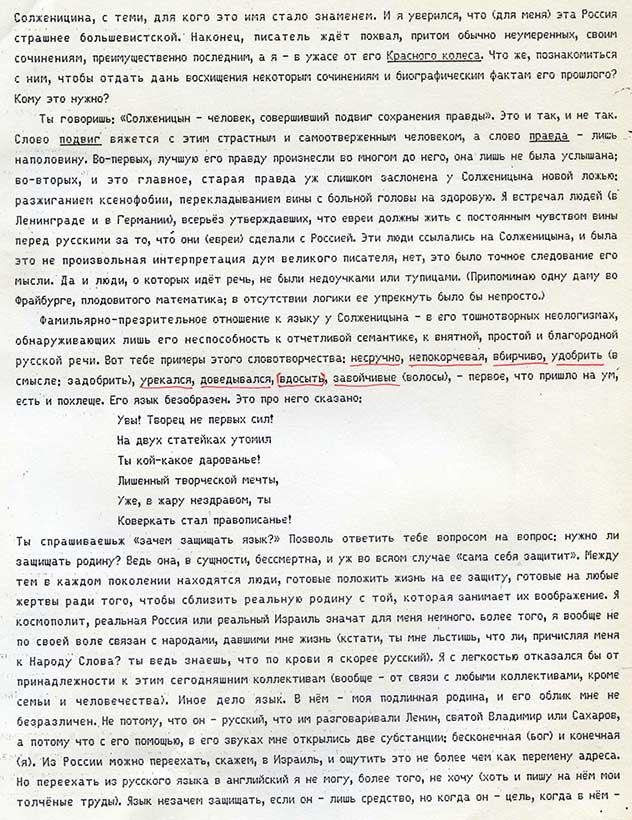 Еще же — потому, что я жил в слишком тесном контакте с Россией Солженицына, с теми, для кого это имя стало знаменем. И я уверился, что (для меня) эта Россия страшнее большевистской. Наконец, писатель ждёт похвал, притом обычно неумеренных, своим сочинениям, преимущественно последним, а я — в ужасе от его Красного колеса. Что же, познакомиться с ним, чтобы отдать дань восхищения некоторым сочинениям и биографическим фактам его прошлого? Кому это нужно?
Еще же — потому, что я жил в слишком тесном контакте с Россией Солженицына, с теми, для кого это имя стало знаменем. И я уверился, что (для меня) эта Россия страшнее большевистской. Наконец, писатель ждёт похвал, притом обычно неумеренных, своим сочинениям, преимущественно последним, а я — в ужасе от его Красного колеса. Что же, познакомиться с ним, чтобы отдать дань восхищения некоторым сочинениям и биографическим фактам его прошлого? Кому это нужно?
Ты говоришь: «Солженицын — человек, совершивший подвиг сохранения правды». Это и так, и не так. Слово подвиг вяжется с этим страстным и самоотверженным человеком, а слово правда — лишь наполовину. Во-первых, лучшую его правду произнесли во многом до него, она лишь не была услышана; во-вторых, и это главное, старая правда уж слишком заслонена у Солженицына новой ложью: разжиганием ксенофобии, перекладыванием вины с больной головы на здоровую. Я встречал людей (в Ленинграде и в Германии), всерьёз утверждавших, что евреи должны жить с постоянным чувством вины перед русскими за то, что они (евреи) сделали с Россией. Эти люди ссылались на Солженицына, и была это не произвольная интерпретация дум великого писателя, нет, это было точное следование его мысли. Да и люди, о которых идёт речь, не были недоучками или тупицами. (Припоминаю одну даму во Фрайбурге, плодовитого математика; в отсутствии логики ее упрекнуть было бы непросто.)
Фамильярно-презрительное отношение к языку у Солженицына — в его тошнотворных неологизмах, обнаруживающих лишь его неспособность к отчетливой семантике, к внятной, простой и благородной русской речи. Вот тебе примеры этого словотворчества; несручно, непокорчевая, вбирчиво, удобрить (в смысле: задобрить), урекался, доведывался, вдосыть, завойчивые (волосы), — первое, что пришло на ум, есть и похлеще. Его язык безобразен. Это про него сказано:
|
Увы! Творец не первых сил! На двух статейках утомил Ты кой-какое дарованье! Лишенный творческой мечты, Уже, в жару нездравом, ты Коверкать стал правописанье! |
Ты спрашиваешь: «зачем защищать язык?» Позволь ответить тебе вопросом на вопрос: нужно ли защищать родину? Ведь она, в сущности, бессмертна, и уж во всяком случае «сама себя защитит». Между тем в каждом поколении находятся люди, готовые положить жизнь на ее защиту, готовые на любые жертвы ради того, чтобы сблизить реальную родину с той, которая занимает их воображение. Я космополит, реальная Россия или реальный Израиль значат для меня немного, более того, я вообще не по своей воле связан с народами, давшими мне жизнь (кстати, ты мне льстишь, что ли, причисляя меня к Народу Слова? ты ведь знаешь, что по крови я скорее русский). Я с легкостью отказался бы от принадлежности к этим сегодняшним коллективам (вообще — от связи с любыми коллективами, кроме семьи и человечества). Иное дело язык. В нём — моя подлинная родина, и его облик мне не безразличен. Не потому, что он — русский, что «им разговаривали Ленин», святой Владимир или Сахаров, а потому что с его помощью, в его звуках мне открылись две субстанции: бесконечная (Бог) и конечная (я). Из России можно переехать, скажем, в Израиль, и ощутить это не более чем как перемену адреса. Но переехать из русского языка в английский я не могу, более того, не хочу (хоть и пишу на нём мои толчёные труды). Язык незачем защищать, если он — лишь средство, но когда он — цель, когда в нём — вся твоя жизнь, то ты и не заметишь, как сделаешься самозабвенным патриотом.
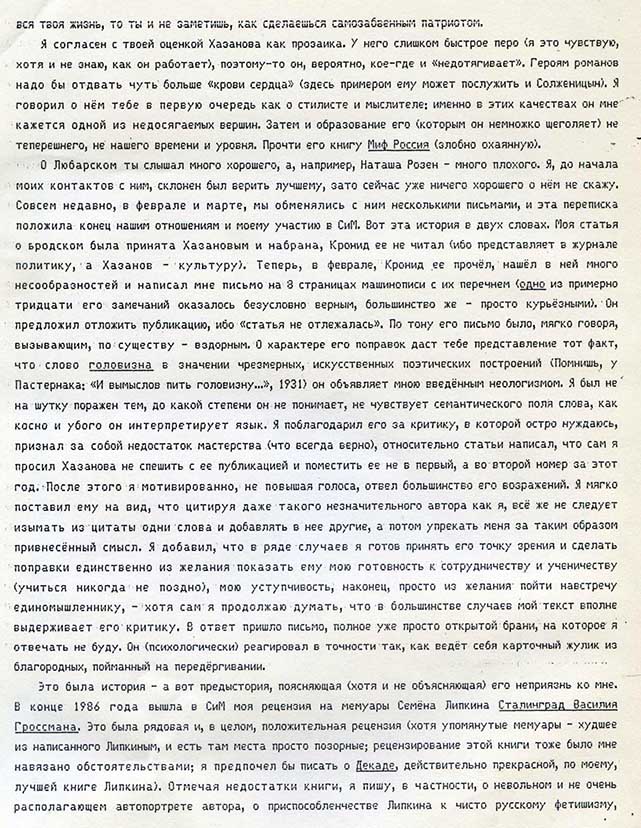
Я согласен с твоей оценкой Хазанова как прозаика. У него слишком быстрое перо (я это чувствую, хотя и не знаю, как он работает), поэтому-то он, вероятно, кое-где и «недотягивает». Героям романов надо бы отдавать чуть больше «крови сердца» (здесь примером ему может послужить и Солженицын). Я говорил о нём тебе в первую очередь как о стилисте и мыслителе: именно в этих качествах он мне кажется одной из недосягаемых вершин. Затем и образование его (которым он немножко щеголяет) не теперешнего, не нашего времени и уровня. Прочти его книгу Миф Россия (злобно охаянную).
О Любарском ты слышал много хорошего, а, например, Наташа Розен — много плохого. Я, до начала моих контактов с ним, склонен был верить лучшему, зато сейчас уже ничего хорошего о нём не скажу. Совсем недавно, в феврале и марте, мы обменялись с ним несколькими письмами, и эта переписка положила конец нашим отношениям и моему участию в СиМ [мюнхенский журнал Страна и мир]. Вот эта история в двух словах. Моя статья о Бродском была принята Хазановым [один из редакторов журнала Страна и мир] и набрана, Кронид ее не читал (ибо представляет в журнале политику, а Хазанов — культуру). Теперь, в феврале, Кронид ее прочёл, нашёл в ней много несообразностей и написал мне письмо на 8 страницах машинописи с их перечнем (одно из примерно тридцати его замечаний оказалось безусловно верным, большинство же — просто курьёзными). Он предложил отложить публикацию, ибо «статья не отлежалась». По тону его письмо было, мягко говоря, вызывающим, по существу — вздорным. О характере его поправок даст тебе представление тот факт, что слово головизна в значении чрезмерных, искусственных поэтических построений (помнишь, у Пастернака: «И вымыслов пить головизну…», 1931) он объявляет мною введённым неологизмом. Я был не на шутку поражен тем, до какой степени он не понимает, не чувствует семантического поля слова, как косно и убого он интерпретирует язык. Я поблагодарил его за критику, в которой остро нуждаюсь, признал за собой недостаток мастерства (что всегда верно), относительно статьи написал, что сам я просил Хазанова не спешить с ее публикацией и поместить ее не в первый, а во второй номер за этот год. После этого я мотивированно, не повышая голоса, отвел большинство его возражений. Я мягко поставил ему на вид, что цитируя даже такого незначительного автора как я, всё же не следует изымать из цитаты одни слова и добавлять в нее другие, а потом упрекать меня за таким образом привнесённый смысл. Я добавил, что в ряде случаев я готов принять его точку зрения и сделать поправки единственно из желания показать ему мою готовность к сотрудничеству и ученичеству (учиться никогда не поздно), мою уступчивость, наконец, просто из желания пойти навстречу единомышленнику, — хотя сам я продолжаю думать, что в большинстве случаев мой текст вполне выдерживает его критику. В ответ пришло письмо, полное уже просто открытой брани, на которое я отвечать не буду. Он (психологически) реагировал в точности так, как ведёт себя карточный жулик из благородных, пойманный на передёргивании.
Это была история — а вот предыстория, поясняющая (хотя и не объясняющая) его неприязнь ко мне. В конце 1986 года вышла в СиМ моя рецензия на мемуары Семёна Липкина Сталинград Василия Гроссмана. Это была рядовая и, в целом, положительная рецензия (хотя упомянутые мемуары — худшее из написанного Липкиным, и есть там места просто позорные; рецензирование этой книги тоже было мне навязано обстоятельствами; я предпочел бы писать о Декаде, действительно прекрасной, по моему, лучшей книге Липкина). Отмечая недостатки книги, я пишу, в частности, о невольном и не очень располагающем автопортрете автора, о приспособленчестве Липкина к чисто русскому фетишизму,
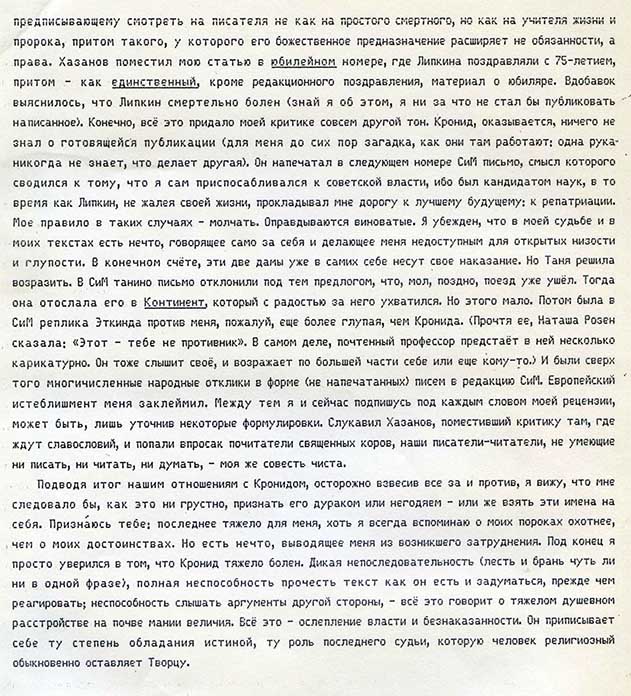 предписывающему смотреть на писателя не как на простого смертного, но как на пророка, притом такого, у которого его божественное предназначение расширяет не обязанности, а права. Хазанов поместил мою статью в юбилейном номере, где Липкина поздравляли с 75-летием, притом — как единственный, кроме редакционного поздравления, материал о юбиляре. Вдобавок выяснилось, что Липкин смертельно болен (знай я об этом, я ни за что не стал бы публиковать написанное). Конечно, всё это придало моей критике совсем другой тон. Кронид, оказывается, ничего не знал о готовящейся публикации (для меня до сих пор загадка, как они там работают: одна рука никогда не знает, что делает другая). Он напечатал в следующем номере СиМ письмо, смысл которого сводился к тому, что я сам приспосабливался к советской власти, ибо был кандидатом наук, в то время как Липкин, не жалея своей жизни, прокладывал мне дорогу к лучшему будущему: к репатриации. Мое правило в таких случаях — молчать. Оправдываются виноватые. Я убежден, что в моей судьбе и в моих текстах есть нечто, говорящее само за себя и делающее меня недоступным для открытых низости и глупости. В конечном счёте, эти две дамы уже в самих себе несут свое наказание. Но Таня решила возразить. В СиМ танино письмо отклонили под тем предлогом, что, мол, поздно, поезд уже ушёл. Тогда она отослала его в Континент, который с радостью за него ухватился. Но этого мало. Потом была в СиМ реплика Эткинда против меня, пожалуй, еще более глупая, чем Кронида. (Прочтя ее, Наташа Розен сказала: «Этот — тебе не противник». В самом деле, почтенный профессор предстаёт в ней несколько карикатурно. Он тоже слышит своё, и возражает по большей части себе или еще кому-то.) И были сверх того многочисленные народные отклики в форме (не напечатанных) писем в редакцию СиМ. Европейский истеблишмент меня заклеймил. Между тем я и сейчас подпишусь под каждым словом моей рецензии, может быть, лишь уточнив некоторые формулировки. Слукавил Хазанов, поместивший критику там, где ждут славословий, и попали впросак почитатели священных коров, наши писатели-читатели, не умеющие ни писать, ни читать, ни думать, — моя же совесть чиста.
предписывающему смотреть на писателя не как на простого смертного, но как на пророка, притом такого, у которого его божественное предназначение расширяет не обязанности, а права. Хазанов поместил мою статью в юбилейном номере, где Липкина поздравляли с 75-летием, притом — как единственный, кроме редакционного поздравления, материал о юбиляре. Вдобавок выяснилось, что Липкин смертельно болен (знай я об этом, я ни за что не стал бы публиковать написанное). Конечно, всё это придало моей критике совсем другой тон. Кронид, оказывается, ничего не знал о готовящейся публикации (для меня до сих пор загадка, как они там работают: одна рука никогда не знает, что делает другая). Он напечатал в следующем номере СиМ письмо, смысл которого сводился к тому, что я сам приспосабливался к советской власти, ибо был кандидатом наук, в то время как Липкин, не жалея своей жизни, прокладывал мне дорогу к лучшему будущему: к репатриации. Мое правило в таких случаях — молчать. Оправдываются виноватые. Я убежден, что в моей судьбе и в моих текстах есть нечто, говорящее само за себя и делающее меня недоступным для открытых низости и глупости. В конечном счёте, эти две дамы уже в самих себе несут свое наказание. Но Таня решила возразить. В СиМ танино письмо отклонили под тем предлогом, что, мол, поздно, поезд уже ушёл. Тогда она отослала его в Континент, который с радостью за него ухватился. Но этого мало. Потом была в СиМ реплика Эткинда против меня, пожалуй, еще более глупая, чем Кронида. (Прочтя ее, Наташа Розен сказала: «Этот — тебе не противник». В самом деле, почтенный профессор предстаёт в ней несколько карикатурно. Он тоже слышит своё, и возражает по большей части себе или еще кому-то.) И были сверх того многочисленные народные отклики в форме (не напечатанных) писем в редакцию СиМ. Европейский истеблишмент меня заклеймил. Между тем я и сейчас подпишусь под каждым словом моей рецензии, может быть, лишь уточнив некоторые формулировки. Слукавил Хазанов, поместивший критику там, где ждут славословий, и попали впросак почитатели священных коров, наши писатели-читатели, не умеющие ни писать, ни читать, ни думать, — моя же совесть чиста.
Подводя итог нашим отношениям с Кронидом, осторожно взвесив все за и против, я вижу, что мне следовало бы, как это ни грустно, признать его дураком или негодяем — или же взять эти имена на себя. Признаюсь тебе: последнее тяжело для меня, хоть я всегда вспоминаю о моих пороках охотнее, чем о моих достоинствах. Но есть нечто, выводящее меня из возникшего затруднения. Под конец я просто уверился в том, что Кронид тяжело болен. Дикая непоследовательность (лесть и брань чуть ли ни в одной фразе), полная неспособность прочесть текст как он есть и задуматься, прежде чем реагировать; неспособность слышать аргументы другой стороны, — всё это говорит о тяжелом душевном расстройстве на почве мании величия. Всё это — ослепление власти и безнаказанности. Он приписывает себе ту степень обладания истиной, ту роль последнего судьи, которую человек религиозный обыкновенно оставляет Творцу.
4.04.88
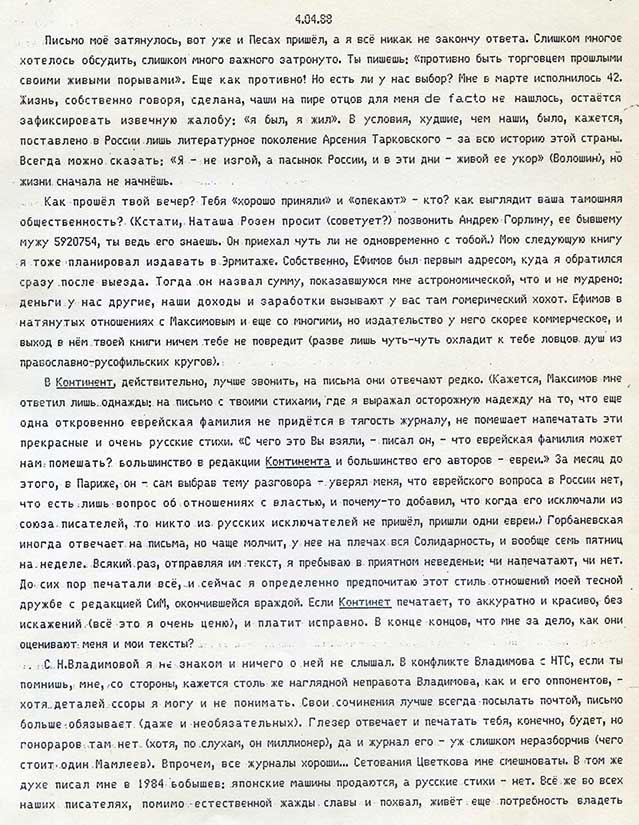
Письмо моё затянулось, вот уже и Песах пришёл, а я всё никак не закончу ответа. Слишком многое хотелось обсудить, слишком много важного затронуто. Ты пишешь; «противно быть торговцем прошлыми своими живыми порывами». Еще как противно! Но есть ли у нас выбор? Мне в марте исполнилось 42. Жизнь, собственно говоря, сделана, чаши на пире отцов для меня de facto не нашлось, остаётся зафиксировать извечную жалобу: «я был, я жил». В условия, худшие, чем наши, было, кажется, поставлено в России лишь литературное поколение Арсения Тарковского — за всю историю этой страны. Всегда можно сказать; «Я — не изгой, а пасынок России, и в эти дни — живой ее укор» (Волошин), но жизни сначала не начнёшь.
Как прошёл твой вечер? Тебя «хорошо приняли» и «опекают» — кто? как выглядит ваша тамошняя общественность? (Кстати, Наташа Розен просит (советует?) позвонить Андрею Горлину, ее бывшему мужу 5920754, ты ведь его знаешь. Он приехал чуть ли не одновременно с тобой.) Мою следующую книгу я тоже планировал издавать в Эрмитаже. Собственно, Ефимов был первым адресом, куда я обратился сразу после выезда. Тогда он назвал сумму, показавшуюся мне астрономической, что и не мудрено; деньги у нас другие, наши доходы и заработки вызывают у вас там гомерический хохот. Ефимов в натянутых отношениях с Максимовым и еще со многими, но издательство у него скорее коммерческое, и выход в нём твоей книги ничем тебе не повредит (разве лишь чуть-чуть охладит к тебе ловцов душ из православно-русофильских кругов).
В Континент, действительно, лучше звонить, на письма они отвечают редко. (Кажется, Максимов мне ответил лишь однажды: на письмо с твоими стихами, где я выражал осторожную надежду на то, что еще одна откровенно еврейская фамилия не придётся в тягость журналу, не помешает напечатать эти прекрасные и очень русские стихи. «С чего это Вы взяли, — писал он, — что еврейская фамилия может нам помешать? Большинство в редакции "Континента" и большинство его авторов — евреи.» За месяц до этого, в Париже, он — сам выбрав тему разговора — уверял меня, что еврейского вопроса в России нет, что есть лишь вопрос об отношениях с властью, и почему-то добавил, что когда его исключали из союза писателей, то никто из русских исключателей не пришёл, пришли одни евреи.) Горбаневская иногда отвечает на письма, но чаще молчит, у нее на плечах вся Солидарность, и вообще семь пятниц на неделе. Всякий раз, отправляя им текст, я пребываю в приятном неведеньи; чи напечатают, чи нет. До сих пор печатали всё, и сейчас я определенно предпочитаю этот стиль отношений моей тесной дружбе с редакцией СиМ, окончившейся враждой. Если Континент печатает, то аккуратно и красиво, без искажений (всё это я очень ценю), и платит исправно. В конце концов, что мне за дело, как они оценивают меня и мои тексты?..
С Н. Владимовой я не знаком и ничего о ней не слышал. В конфликте Владимова с НТС, если ты помнишь, мне, со стороны, кажется столь же наглядной неправота Владимова, как и его оппонентов, — хотя деталей ссоры я могу и не понимать. Свои сочинения лучше всегда посылать почтой, письмо больше обязывает (даже и необязательных). Глезер отвечает и печатать тебя, конечно, будет, но гонораров там нет (хотя, по слухам, он миллионер), да и журнал его — уж слишком неразборчив (чего стоит один Мамлеев). Впрочем, все журналы хороши… Сетования Цветкова мне смешноваты. В том же духе писал мне в 1984 Бобышев: японские машины продаются, а русские стихи — нет. Всё же во всех наших писателях, помимо естественной жажды славы и похвал,
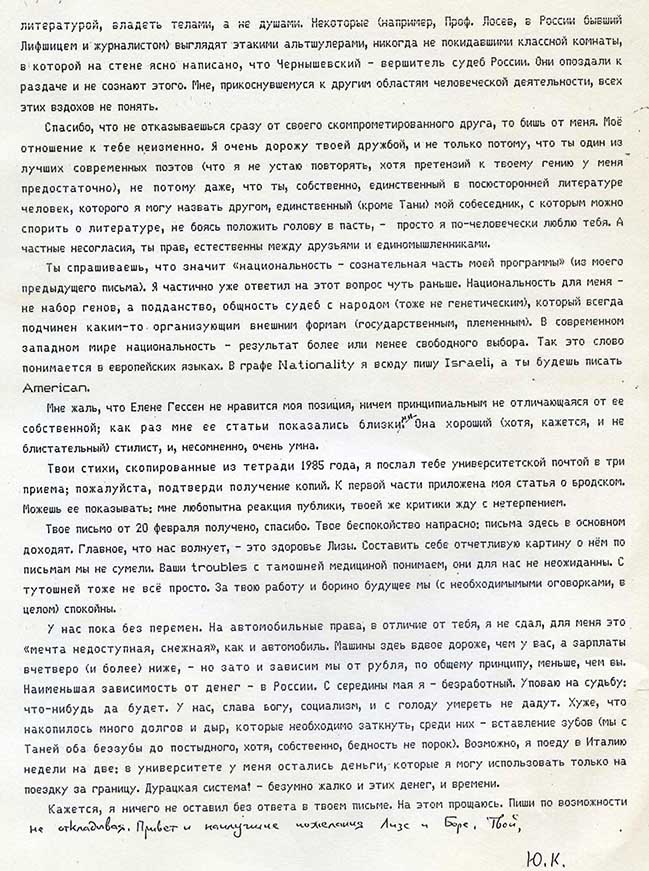 живёт еще потребность владеть литературой, владеть телами, а не душами. Некоторые (например, Проф. Лосев, в России бывший Лифшицем и журналистом) выглядят этакими альтшулерами, никогда не покидавшими классной комнаты, в которой на стене ясно написано, что Чернышевский — вершитель судеб России. Они опоздали к раздаче и не сознают этого. Мне, прикоснувшемуся к другим областям человеческой деятельности, всех этих вздохов не понять.
живёт еще потребность владеть литературой, владеть телами, а не душами. Некоторые (например, Проф. Лосев, в России бывший Лифшицем и журналистом) выглядят этакими альтшулерами, никогда не покидавшими классной комнаты, в которой на стене ясно написано, что Чернышевский — вершитель судеб России. Они опоздали к раздаче и не сознают этого. Мне, прикоснувшемуся к другим областям человеческой деятельности, всех этих вздохов не понять.
Спасибо, что не отказываешься сразу от своего скомпрометированного друга, то бишь от меня. Моё отношение к тебе неизменно. Я очень дорожу твоей дружбой, и не только потому, что ты один из лучших современных поэтов (что я не устаю повторять, хотя претензий к твоему гению у меня предостаточно), не потому даже, что ты, собственно, единственный в посюсторонней литературе человек, которого я могу назвать другом, единственный (кроме Тани) мой собеседник, с которым можно спорить о литературе, не боясь положить голову в пасть, — просто я по-человечески люблю тебя. А частные несогласия, ты прав, естественны между друзьями и единомышленниками.
Ты спрашиваешь, что значит «национальность — сознательная часть моей программы» (из моего предыдущего письма). Я частично уже ответил на этот вопрос чуть раньше. Национальность для меня — не набор генов, а подданство, общность судеб с народом (тоже не генетическим), который всегда подчинен каким-то организующим внешним формам (государственным, племенным). В современном западном мире национальность — результат более или менее свободного выбора. Так это слово понимается в европейских языках. В графе Nationality я всюду пишу Israeli, а ты будешь писать American.
Мне жаль, что Елене Гессен не нравится моя позиция, ничем принципиальным не отличающаяся от ее собственной; как раз мне ее статьи показались близки. Она хороший (хотя, кажется, и не блистательный) стилист, и, несомненно, очень умна.
Твои стихи, скопированные из тетради 1985 года, я послал тебе университетской почтой в три приема; пожалуйста, подтверди получение копий. К первой части приложена моя статья о Бродском. Можешь ее показывать; мне любопытна реакция публики, твоей же критики жду с нетерпением.
Твое письмо от 20 февраля получено, спасибо. Твое беспокойство напрасно: письма здесь в основном доходят. Главное, что нас волнует, — это здоровье Лизы [жены Эпштейна]. Составить себе отчетливую картину о нём по письмам мы не сумели. Ваши troubles с тамошней медициной понимаем, они для нас не неожиданны. С тутошней тоже не всё просто. За твою работу и борино будущее мы (с необходимыми оговорками, в целом) спокойны.
У нас пока без перемен. На автомобильные права, в отличие от тебя, я не сдал, для меня это «мечта недоступная, снежная», как и автомобиль. Машины здесь вдвое дороже, чем у вас, а зарплаты вчетверо (и более) ниже, — но зато и зависим мы от рубля, по общему принципу, меньше, чем вы. Наименьшая зависимость от денег — в России. С середины мая я — безработный. Уповаю на судьбу; что-нибудь да будет. У нас, слава Богу, социализм, и с голоду умереть не дадут. Хуже, что накопилось много долгов и дыр, которые необходимо заткнуть, среди них — вставление зубов (мы с Таней оба беззубы до постыдного, хотя, собственно, бедность не порок). Возможно, я поеду в Италию недели на две; в университете у меня остались деньги, которые я могу использовать только на поездку за границу. Дурацкая система! — безумно жалко и этих денег, и времени.
Кажется, я ничего не оставил без ответа в твоем письме. На этом прощаюсь. Пиши по возможности не откладывая. Привет и наилучшие пожелания Лизе и Боре. Твой
Ю. К.
27.10.88,
Иерусалим
Дорогой Лёня,
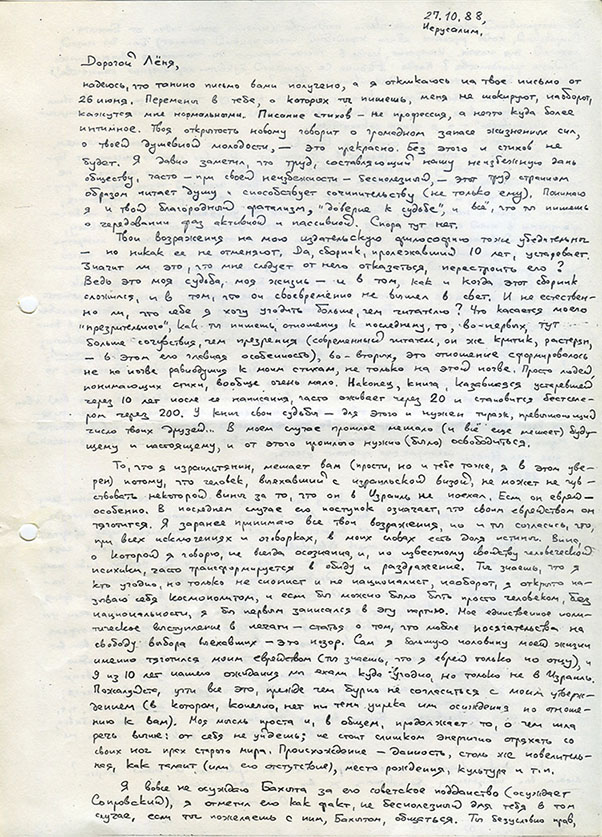
надеюсь, что танино письмо вами получено, а я откликаюсь на твое письмо от 26 июля. Перемены в тебе, о которых ты пишешь, меня не шокируют, наоборот, кажутся мне нормальными. Твоя открытость новому говорит о громадном запасе жизненных сил, о твоей душевной молодости, — это прекрасно. Без этого и стихов не будет. Я давно заметил, что труд, составляющий нашу неизбежную дань обществу, часто — при своей неизбежности — бесполезный, — этот труд странным образом питает душу и способствует сочинительству (не только ему). Понимаю я и твой благородный фатализм, «доверие к судьбе», и всё, что ты пишешь о чередовании фаз активной и пассивной. Спора тут нет.
Твои возражения на мою издательскую философию тоже убедительны — но никак ее не отменяют. Да, сборник, пролежавший 10 лет, устаревает. Значит ли это, что мне следует от него отказаться, перестроить его? Ведь это моя судьба, моя жизнь — и в том, как и когда этот сборник сложился, и в том, что он своевременно не вышел в свет. И не естественно ли, что себе я хочу угодить больше, чем читателю? Что касается моего «презрительного», как ты пишешь, отношения к последнему, то, во-первых, тут больше сочувствия, чем презрения (современный читатель, он же критик, растерян, — в этом его главная особенность), во-вторых, это отношение сформировалось не на почве равнодушия [читателя] к моим стихам, не только на этой почве. Просто людей, понимающих стихи, вообще очень мало. Наконец, книга, казавшаяся устаревшей через 10 лет после ее написания, часто оживает через 20 и становится бестселлером через 200. У книг свои судьбы — для этого и нужен тираж, превышающий число твоих друзей… В моем случае прошлое мешало (и всё еще мешает) будущему и настоящему, и от этого прошлого нужно (было) освободиться.
То, что я израильтянин, мешает всем (прости, но и тебе тоже, я в этом уверен) потому, что человек, выехавший с израильской визой, не может не чувствовать некоторой вины за то, что он в Израиль не поехал. Если он еврей — особенно. В последнем случае его поступок означает, что своим еврейством он тяготится. Я заранее принимаю все твои возражения, но и ты согласись, что, при всех исключениях и оговорках, в моих словах есть доля истины. Вина, о которой я говорю, не всегда осознанна, и, по известному свойству человеческой психики, часто трансформируется в обиду и раздражение. Ты знаешь, что я кто угодно, но только не сионист и не националист, наоборот, я открыто называю себя космополитом, и если бы можно было быть просто человеком, без национальности, я бы первым записался в эту партию. Мое единственное политическое выступление в печати — статья о том, что любые посягательства на свободу выбора выехавших — это позор. Сам я бо́льшую половину моей жизни именно тяготился моим еврейством (ты знаешь, что я еврей только по отцу), и 9 из 10 лет нашего ожидания [выездной визы] мы ехали [то есть: собирались ехать; ехали мысленно] куда угодно, но только не в Израиль. Пожалуйста, учти всё это прежде, чем бурно не согласиться с моим утверждением (в котором, конечно, нет ни тени упрека или осуждения по отношению к вам). Моя мысль проста и, в общем, продолжает то, о чем шла речь выше: от себя не уйдешь; не стоит слишком энергично отряхать со своих ног прах старого мира. Происхождение — данность, столь же повелительная, как и талант (или его отсутствие), место рождения, культура и т. п.
Я вовсе не осуждаю Бахыта за его советское подданство (осуждает Сопровский), я отметил его как факт, небесполезный для тебя в том случае, если ты пожелаешь с ним, Бахытом, общаться.
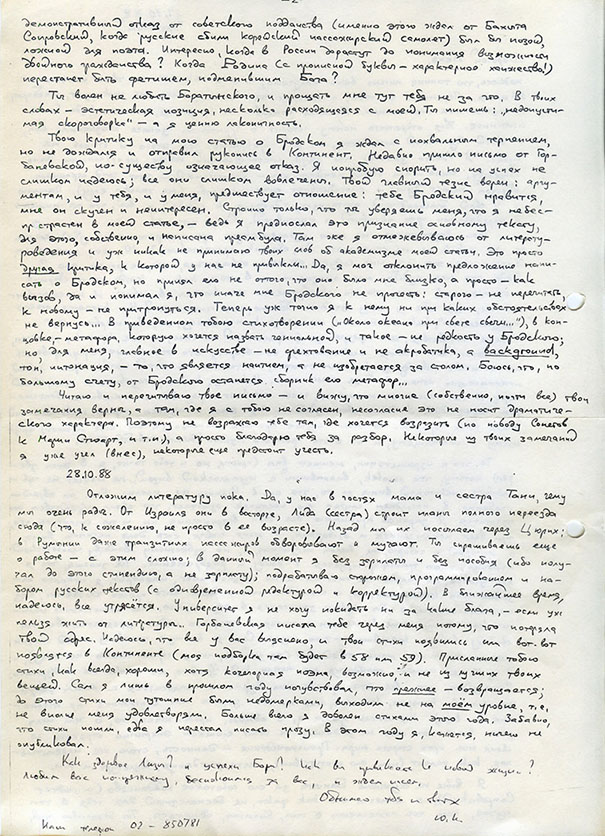 Ты безусловно прав, демонстративный отказ от советского подданства (именно этого ждал от Бахыта Сопровский, когда русские сбили корейский пассажирский самолет) был бы позой, ложной для поэта. Интересно, когда в России дорастут до понимания возможности двойного гражданства? Когда Родина (с прописной буквы — характерное ханжество!) перестанет быть фетишем, подменяющим Бога?
Ты безусловно прав, демонстративный отказ от советского подданства (именно этого ждал от Бахыта Сопровский, когда русские сбили корейский пассажирский самолет) был бы позой, ложной для поэта. Интересно, когда в России дорастут до понимания возможности двойного гражданства? Когда Родина (с прописной буквы — характерное ханжество!) перестанет быть фетишем, подменяющим Бога?
Ты волен не любить Боратынского, и прощать мне тут тебя не за что. В твоих словах — эстетическая позиция, несколько расходящаяся с моей. Ты пишешь: «недопустимая скороговорка», а я ценю лаконичность.
Твою критику на мою статью о Бродском я ожидал с похвальным терпением, но не дождался и отправил статью в Континент. Недавно пришло письмо от Горбаневской, по существу означающее отказ. Я попробую спорить, но на успех не слишком надеюсь; все они слишком вовлечены. Твой главный тезис верен: аргументам, и у тебя, и у меня, предшествует отношение: тебе Бродский нравится, мне он скучен и неинтересен. Странно только, что ты уверяешь меня, что я небеспристрастен в моей статье, — ведь я предпослал это признание основному тексту, для этого, собственно, и написана преамбула. Там же отмежевываюсь от литературоведения и уж никак не принимаю твоих слов об академизме моей статьи. Это просто другая критика, к которой у нас не привыкли… Да, я мог отклонить предложение написать о Бродском, но принял его не оттого, что оно было мне близко, а просто — как вызов, да и понимал я, что иначе мне Бродского не прочесть: старого — не перечитать, к новому — не притронуться. Теперь уж точно я к нему ни при каких обстоятельствах не вернусь… В приведенном тобою стихотворении («Около океана при свете свечи…»), в концовке, — метафора, которую хочется назвать гениальной, и такое — не редкость у Бродского; но, для меня, главное в искусстве — не фехтование и не акробатика, а background, тон, интонация, — то, что является наитием. а не изобретается за столом. Боюсь, что, по большому счету, от Бродского останется сборник его метафор…
Читаю и перечитываю твое письмо — и вижу, что многие (собственно, почти все) твои замечания верны, а там, где я с тобою не согласен, несогласие это не носит драматического характера. Поэтому не возражаю тебе там, где хочется возразить (по поводу Сонетов к Марии Стюарт, и т.п.), а просто благодарю тебя за разбор. Некоторые из твоих замечаний я уже учел (внес), некоторые еще предстоит учесть.
28.10.88
Отложим литературу пока. Да, у нас в гостях мама и сестра Тани, чему мы очень рады. От Израиля они в восторге, Лида (сестра) строит планы полного переезда сюда (что, к сожалению, непросто в ее возрасте). Назад мы их посылаем через Цюрих: в Румынии даже транзитных пассажиров обворовывают и мучают. Ты спрашиваешь еще о работе — с этим сложно; в данный момент я без зарплаты и без пособия (ибо получал до этого стипендию, а не зарплату); подрабатываю сторожем, программистом и надеюсь, всё утрясётся. Университет я не хочу покидать ни за какие блага, — если уж нельзя жить от литературы… Горбаневская писала тебе через меня потому, что потеряла твой адрес. Надеюсь, что все у вас выяснено, и твои стихи появились или вот-вот появятся в Континенте (моя подборка там будет в 58 или 59). Присланные тобою стихи, как всегда, хороши, хотя кочегарная поэма, возможно, и не из лучших твоих вещей. Сам я лишь в прошлом году почувствовал, что прежнее — возвращается; до этого стихи мои тутошние были недомерками, выходили не на моём уровне, т.е. не вполне меня удовлетворяли. Больше всего я доволен стихами этого года. Забавно, что стихи пошли, едва я перестал писать прозу. В этом году я, кажется, ничего не опубликовал.
Как здоровье Лизы? и успехи Бори? как вы привыкаете к новой жизни? Любим вас по-прежнему, беспокоимся за вас, и ждем писем.
Обнимаю тебя и твоих.
Ю.К.
Наш телефон 02-850781
| 17 июля 1991, Боремвуд. |
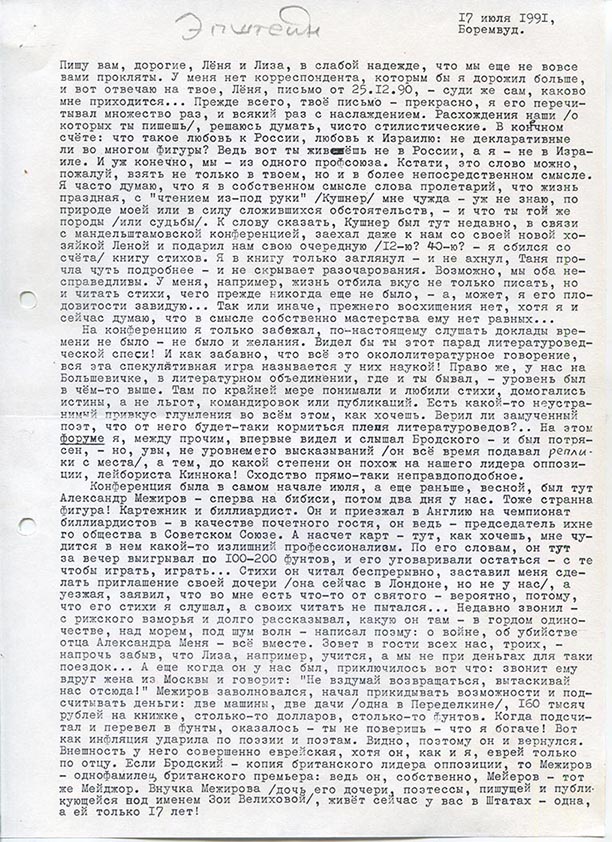
Пишу вам, дорогие, Лёня и Лиза [жена Эпштейна], в слабой надежде, что мы еще не вовсе вами прокляты. У меня нет корреспондента, которым бы я дорожил больше, и вот отвечаю на твое, Лёня, письмо от 25.12.90, — суди же сам, каково мне приходится… Прежде всего, твоё письмо — прекрасно, я его перечитывал множество раз, и всякий раз с наслаждением. Расхождения наши (о которых ты пишешь), решаюсь думать, чисто стилистические. В конечном счёте: что такое любовь к России, любовь к Израилю: не декларативные ли во многом фигуры? Ведь вот ты живёшь не в России, а я — не в Израиле. И уж конечно, мы — из одного профсоюза. Кстати, это слово можно, пожалуй, взять не только в твоем, но и в более непосредственном смысле. Я часто думаю, что я в собственном смысле слова пролетарий, что жизнь праздная, с «чтением из-под руки» (Кушнер) мне чужда — уж не знаю, по природе моей или в силу сложившихся обстоятельств, — и что ты той же породы (или судьбы). К слову сказать, Кушнер был тут недавно, в связи с мандельштамовской конференцией, заехал даже к нам со своей новой хозяйкой Леной и подарил нам свою очередную (12-ю? 40-ю? — я сбился со счёта) книгу стихов. Я в книгу только заглянул — и не ахнул, Таня прочла чуть подробнее — и не скрывает разочарования. Возможно, мы оба несправедливы. У меня, например, жизнь отбила вкус не только писать, но и читать стихи, чего прежде никогда еще не было, — а, может, я его плодовитости завидую… Так или иначе, прежнего восхищения нет, хотя я и сейчас думаю, что в смысле собственно мастерства ему нет равных…
На конференцию я только забежал, по-настоящему слушать доклады времени не было — не было и желания. Видел бы ты этот парад литературоведческой спеси! И как забавно, что всё это окололитературное говорение, вся эта спекулятивная игра называется у них наукой! Право же, у нас на Большевичке, в литературном объединении, где и ты бывал, — уровень был в чём-то выше. Там по крайней мере понимали и любили стихи, домогались истины, а не льгот, командировок или публикаций. Есть какой-то неустранимой привкус глумления во всём этом, как хочешь. Верил ли замученный поэт, что от него будет-таки кормиться племя литературоведов?.. На этом форуме я, между прочим, впервые видел и слышал Бродского — и был потрясен, — но, увы, не уровнем его высказываний (он всё время подавал реплики с места), а тем, до какой степени он похож на нашего лидера оппозиции, лейбориста Киннока! Сходство прямо-таки неправдоподобное.
Конференция была в самом начале июля, а еще раньше, весной [на самом деле зимой: между 21 января и 18 февраля 1991 (по датам моих писем к Кушнеру)], был тут Александр Межиров — сперва на бибиси, потом два дня у нас. Тоже странная фигура! Картежник и биллиардист. Он и приезжал в Англию на чемпионат биллиардистов — в качестве почетного гостя, он ведь — председатель ихнего общества в Советском Союзе. А насчет карт — тут, как хочешь, мне чудится в нем какой-то излишний профессионализм. По его словам, он тут за вечер выигрывал по 100-200 фунтов, и его уговаривали остаться — с тем, чтобы играть, играть… Стихи он читал беспрерывно, заставил меня сделать приглашение своей дочери (она сейчас в Лондоне, но не у нас), а уезжая, заявил, что во мне есть что-то от святого — вероятно, потому, что его стихи я слушал, а своих читать не пытался… Недавно звонил — с рижского взморья и долго рассказывал, какую он там — в гордом одиночестве, над морем, под шум волн — написал поэму: о войне, об убийстве отца Александра Меня — всё вместе. Зовет в гости всех нас, троих, — напрочь забыв, что Лиза, например, учится, а мы не при деньгах для таких поездок… А еще когда он у нас был, приключилось вот что: звонит ему вдруг жена из Москвы и говорит: «Не вздумай возвращаться, вытаскивай нас отсюда!» Межиров заволновался, начал прикидывать возможности и подсчитывать деньги: две машины, две дачи (одна в Переделкине), 160 тысяч рублей на книжке, столько-то долларов, столько-то фунтов. Когда подсчитал и перевел в фунты, оказалось — ты не поверишь — что я богаче! Вот как инфляция ударила по поэзии и поэтам. Видно, поэтому он и вернулся. Внешность у него совершенно еврейская, хотя он, как и я, еврей только по отцу. Если Бродский — копия британского лидера оппозиции, то Межиров — однофамилец британского премьера: ведь он, собственно, Мейеров — тот же Мейджор. Внучка Межирова (дочь его дочери, поэтессы, пишущей и публикующейся под именем Зои Велиховой), живёт сейчас у вас в Штатах — одна, а ей только 17 лет!
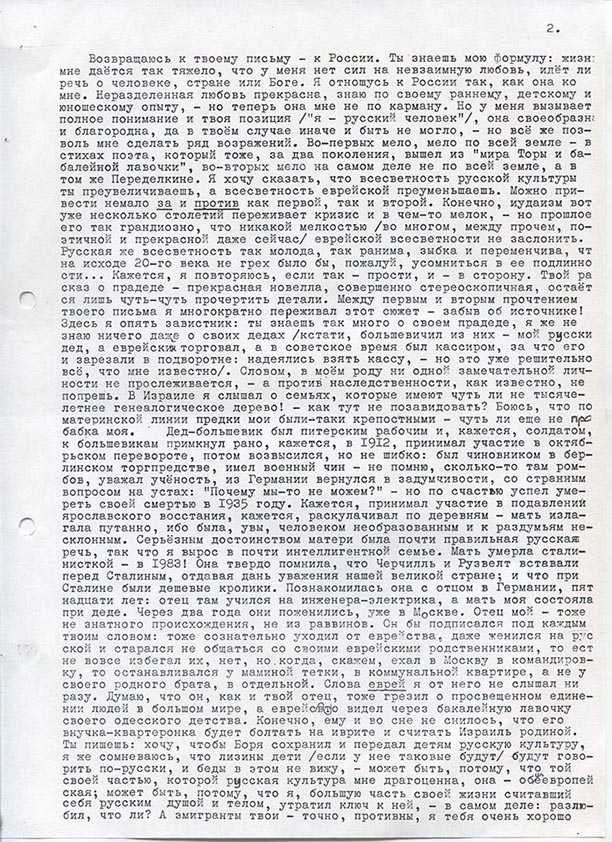
Возвращаюсь к твоему письму — к России. Ты знаешь мою формулу: жизнь мне даётся так тяжело, что у меня нет сил на невзаимную любовь, идёт ли речь о человеке, стране или Боге. Я отношусь к России так, как она ко мне. Неразделенная любовь прекрасна, знаю по своему раннему, детскому и юношескому опыту, — но теперь она мне не по карману. Но у меня вызывает полное понимание и твоя позиция («я — русский человек»), она своеобразна и благородна, да в твоём случае иначе и быть не могло, — но всё же позволь мне сделать ряд возражений. Во-первых мело, мело по всей земле — в стихах поэта, который тоже, за два поколения, вышел из «мира Торы и бакалейной лавочки», во-вторых мело на самом деле не по всей земле, а в том же Переделкине. Я хочу сказать, что всесветность русской культуры ты преувеличиваешь, а всесветность еврейской преуменьшаешь. Можно привести немало за и против как первой, так и второй. Конечно, иудаизм вот уже несколько столетий переживает кризис и в чем-то мелок, — но прошлое его так грандиозно, что никакой мелкостью (во многом, между прочим, поэтичной и прекрасной даже сейчас) еврейской всесветности не заслонить. Русская же всесветность так молода, так ранима, зыбка и переменчива, что на исходе 20-го века не грех было бы, пожалуй, усомниться в ее подлинности… Кажется, я повторяюсь, если так — прости, и — в сторону. Твой рассказ о прадеде — прекрасная новелла, совершенно стереоскопичная, остаётся лишь чуть-чуть прочертить детали. Между первым и вторым прочтением твоего письма я многократно переживал этот сюжет — забыв об источнике! Здесь я опять завистник: ты знаешь так много о своем прадеде, я же не знаю ничего даже о своих дедах (кстати, большевичил из них — мой русский дед, а еврейский торговал, а в советское время был кассиром, за что его и зарезали в подворотне: надеялись взять кассу, — но это уже решительно всё, что мне известно). Словом, в моём роду ни одной замечательной личности не прослеживается, — а против наследственности, как известно, не попрешь. В Израиле я слышал о семьях, которые имеют чуть ли не тысячелетнее генеалогическое дерево! — как тут не позавидовать? Боюсь, что по материнской линии предки мои были-таки крепостными — чуть ли еще не прабабка моя. Дед-большевик был питерским рабочим и, кажется, солдатом, к большевикам примкнул рано, кажется, в 1912, принимал участие в октябрьском перевороте, потом возвысился, но не шибко: был чиновником в берлинском торгпредстве, имел военный чин — не помню, сколько-то там ромбов, уважал учёность, из Германии вернулся в задумчивости, со странным вопросом на устах: «Почему мы-то не можем?» — но по счастью успел умереть своей смертью в 1935 году. Кажется, принимал участие в подавлении ярославского восстания, кажется, раскулачивал по деревням — мать излагала путано, ибо была, увы, человеком необразованным и к раздумьям несклонным. Серьёзным достоинством матери была почти правильная русская речь, так что я вырос в почти интеллигентной семье. Мать умерла сталинисткой — в 1983! Она твердо помнила, что Черчилль и Рузвельт вставали перед Сталиным, отдавая дань уважения нашей великой стране; и что при Сталине были дешевые кролики. Познакомилась она с отцом в Германии, пятнадцати лет: отец там учился на инженера-электрика, а мать моя состояла при деде. Через два года они поженились, уже в Москве. Отец мой — тоже не знатного происхождения, не из раввинов. Он бы подписался под каждым твоим словом: тоже сознательно уходил от еврейства, даже женился на русской и старался не общаться со своими еврейскими родственниками, то есть не вовсе избегал их, нет, но когда, скажем, ехал в Москву в командировку, то останавливался у маминой тетки, в коммунальной квартире, а не у своего родного брата, в отдельной. Слова еврей я от него не слышал ни разу. Думаю, что он, как и твой отец, тоже грезил о просвещенном единении людей в большом мире, а еврейство видел через бакалейную лавочку своего одесского детства. Конечно, ему и во сне не снилось, что его внучка-квартеронка будет болтать на иврите и считать Израиль родиной. Ты пишешь: хочу, чтобы Боря сохранил и передал детям русскую культуру, я же сомневаюсь, что лизины дети (если у нее таковые будут) будут говорить по-русски, и беды в этом не вижу, — может быть, потому, что той своей частью, которой русская культура мне драгоценна, она — общеевропейская; может быть, потому, что я, большую часть своей жизни считавший себя русским душой и телом, утратил ключ к ней, — в самом деле: разлюбил, что ли? А эмигранты твои — точно, противны, я тебя очень хорошо понимаю…
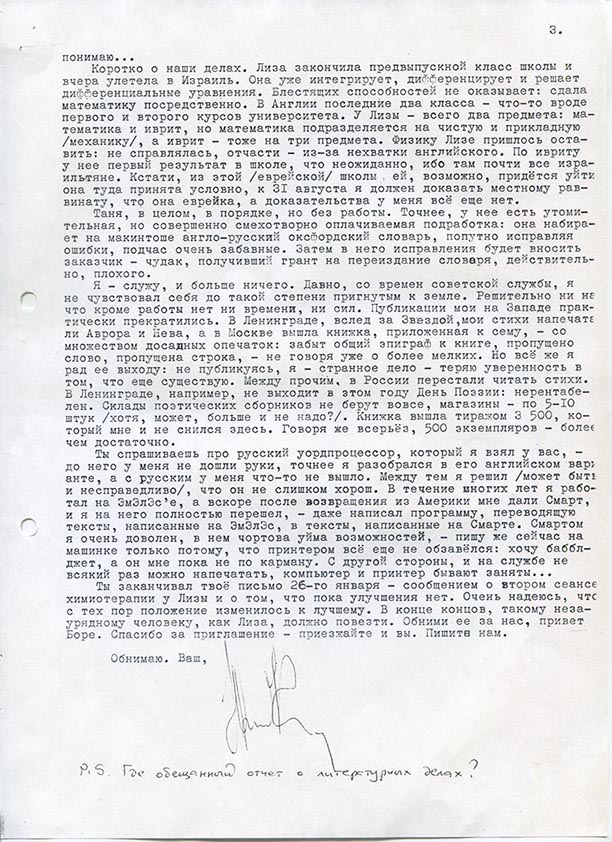
Коротко о наши делах. Лиза закончила предвыпускной класс школы и вчера улетела в Израиль. Она уже интегрирует, дифференцирует и решает дифференциальные уравнения. Блестящих способностей не оказывает: сдала математику посредственно. В Англии последние два класса — что-то вроде первого и второго курсов университета. У Лизы — всего два предмета: математика и иврит, но математика подразделяется на чистую и прикладную (механику), а иврит — тоже на три предмета. Физику Лизе пришлось оставить: не справлялась, отчасти — из-за нехватки английского. По ивриту у нее первый результат в школе, что неожиданно, ибо там почти все израильтяне. Кстати, из этой (еврейской) школы ей, возможно, придётся уйти она туда принята условно, к 31 августа я должен доказать местному раввинату, что она еврейка, а доказательства у меня всё еще нет.
Таня, в целом, в порядке, но без работы. Точнее, у нее есть утомительная, но совершенно смехотворно оплачиваемая подработка: она набирает на макинтоше англо-русский оксфордский словарь, попутно исправляя ошибки, подчас очень забавные. Затем в него исправления будет вносить заказчик — чудак, получивший грант на переиздание словаря, действительно, плохого.
Я — служу, и больше ничего. Давно, со времен советской службы, я не чувствовал себя до такой степени пригнутым к земле. Решительно ни на что кроме работы нет ни времени, ни сил. Публикации мои на Западе практически прекратились. В Ленинграде, вслед за Звездой, мои стихи напечатали Аврора и Нева, а в Москве вышла книжка, приложенная к сему, — со множеством досадных опечаток: забыт общий эпиграф к книге, пропущено слово, пропущена строка, — не говоря уже о более мелких. Но всё же я рад ее выходу: не публикуясь, я — странное дело — теряю уверенность в том, что еще существую. Между прочим, в России перестали читать стихи. В Ленинграде, например, не выходит в этом году День Поэзии: нерентабелен. Склады поэтических сборников не берут вовсе, магазины — по 5-10 штук (хотя, может, больше и не надо?). Книжка вышла тиражом 3 500, который мне и не снился здесь. Говоря же всерьёз, 500 экземпляров — более чем достаточно.
Ты спрашиваешь про русский уордпроцессор, который я взял у вас [в октябре 1990], — до него у меня не дошли руки, точнее я разобрался в его английском варианте, а с русским у меня что-то не вышло. Между тем я решил (может быть и несправедливо), что он не слишком хорош. В течение многих лет я работал на ЭмЭлЭс'е, а вскоре после возвращения из Америки мне дали Смарт, и я на него полностью перешел, — даже написал программу, переводящую тексты, написанные на ЭмЭлЭс, в тексты, написанные на Смарте. Смартом я очень доволен, в нем чортова уйма возможностей, — пишу же сейчас на машинке только потому, что принтером всё еще не обзавёлся: хочу баббл-джет, а он мне пока не по карману. С другой стороны, и на службе не всякий раз можно напечатать, компьютер [sic! на всей русской службе Би-Би-Си был один компьютер: у секретарши] и принтер бывают заняты…
Ты заканчивал твоё письмо 26-го января — сообщением о втором сеансе химиотерапии у Лизы и о том, что пока улучшения нет. Очень надеюсь, что с тех пор положение изменилось к лучшему. В конце концов, такому незаурядному человеку, как Лиза, должно повезти. Обними ее за нас, привет Боре. Спасибо за приглашение — приезжайте и вы. Пишите нам.
Обнимаю. Ваш,
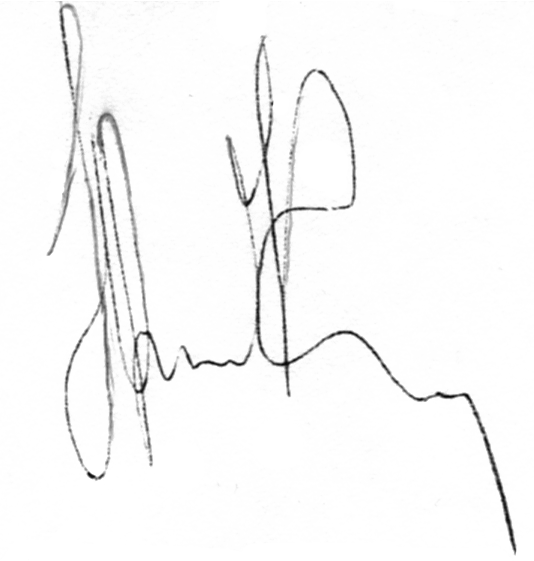
P.S. Где обещанный отчет о литературных делах?
Yuri Kolker
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD62BB
England
Telephones: 4471257 2121 (BBC),
4481207 3616 (home)
Fax 4471379 8104 (BBC)
6 -12 September 1993
Leopold V. Epstein
94 Becon St., Apt. 27
Somerville
Boston
MA 02143, USA
Дорогой Леня,
чтобы автор не чувствовал себя слишком виноватым и отучился начинать письма с извинений, — я решил провиниться перед ним еще сильнее [то есть не отвечать ещё дольше]. Что, разумеется, шутка: ничего я не решил, а просто жизнь идет колесом, но и это — не оправдание; да и не оправдываюсь я. Книгу я твою получил вовремя и прочел сразу. В былые времена — тотчас кинулся бы писать рецензию, а сейчас не кинулся, — не в последнюю очередь потому, что писать некуда. Так что рецензия будет в письме.
Начну с того, что я тебе и раньше говорил: ты — один из лучших поэтов современности, и, сверх того, один из самых искусных версификаторов — в эпоху, когда многие искусны. Я по-прежнему люблю твои стихи, и книгу прочел с величайшим интересом и волнением. При всем том я разочарован: я ждал, что удар будет сильнее. Когда год назад напечатал книжку мой давний друг Валерий Скобло (ты можешь его помнить по Большевичке), произошло как раз обратное: я знал в его книге почти каждое стихотворение (он пишет мало), но тут он разом вырос в моих глазах — и на какую-то минуту сравнялся с великими. Твоя же книга тебя (в моих глазах) не подняла. Конечно, главная вина тут вполне может быть моя, а не твоя, — но вот что мне все же приходит в голову.
Прежде всего, смело отвергая хронологический порядок расположения стихов, отвергая классическую метафору пути поэта, — ты нарушаешь какие-то важные связи, без которых книга распадается на сборник стихотворений — и перестает быть целым. Скажем, «Окрест взглянул я…» (1975) и Ночная прогулка осенью (1980, стр. 106 и 107) — не соседи друг другу, они принадлежат двум разным циклам. Стихотворение 1970 (!) года «Ты мой предсмертный бред…» (стр. 18), вообще слабое, всего на страницу отстоит от стихотворения «Неосязаемой любви…» — 1988 года, написанного словно другим человеком. Это — промискуитет, если не кровосмешение, лирика таких вещей не терпит. Добро бы ты был Фет или Сологуб, но и они не менялись только в старости.
Записывать стихи прозой — дело едва ли стоющее. Это еще одна авангардистская увертка, вроде лесенки, — скрывающая боязнь высоты, оправдывающая скоропись и многословие, да и новация эта — с бородой. Чувствуется, что ты жил в Москве в звездный час Леонида Мартынова. Твои импрессионистические рассказы блистательны, но им не хватает вескости стихотворной строки (которая есть природная данность или божественное установление), а в конечном счете — поэзии.
Вообще, ты превосходно, виртуозно владеешь стихом, — но слово у тебя почти никогда не наполняется новым значением, не излучает, как, скажем, у позднего Заболоцкого, когда, возвращенное из первобытной вековой плавильни, оно то же — да не то; у тебя оно словно бы лишено внутреннего напряжения, — вместо которого ты и устраиваешь этот фейерверк на сцене с избытком декораций. Другая сторона уверенного версифицирования — пренебрежение к синтаксису, к падежным окончаниям. Нельзя сказать «Пять женщин я люблю одновременно…», можно сказать: я пятерых люблю… (Кстати, слово одновреме́нно идет у тебя с ударением хоть и общепринятым, но отличным от литературной нормы, — но это к слову, я сам это неправильное ударение предпочитаю.)
Рифма — служанка в поэзии, а от служанки ждешь скромности, опрятности и прилежания. Даже когда она приносит Боратынскому живую ветвь с родного брега, она все равно — на подсобных работах. Благовествующий ангел — не Бог, а только посланник Бога. Потому-то когда рифма берет на себя неприсущие ей обязанности или ведет себя вызывающе, — получается чепуха. Ей не пристало оттягивать на себя внимание, кокетничать с хозяином, а хозяин в поэзии — Мимезис, смысл, изображающее выражение. Я не учу тебя и не трактат сочиняю, пойми меня правильно. Более того, я заранее знаю, что ты этих моих рассуждений не примешь — и не поверишь мне, что московская рифма Супина–сулило (в очень хорошем стихотворении Степь) нехороша, а рифмы виражи–жить, народа–Нероном плохи (особенно вторая), тогда как рифма кроной–замутненный прекрасна, не в последнюю очередь — благодаря своей внутренней турбулентности при графически правильном окончании. Ты скажешь: над «рифмой для глаз» смеялся еще Пушкин, но он имел в виду немые согласные французского языка, а не сильные согласные русского, — поэтому, скажем, твоя рифма свыкаюсь–хаос кажется мне приемлемой или даже хорошей, а рифма гладким–загадки невозможной. В конечном счете остаточная рифма — всего лишь равнодушие к поэзии, к ее целомудренной сущности.
Разумеется, поздние твои стихи в целом значительно сильнее ранних. Очень хороши «Ничто не нарушает тишины…», «За пустым занятием за этим…», — в них нет виртуозности и блеска твоих менее удачных вещей, но в них есть главное: высота.
Ты, конечно, не подражатель, — но есть стихи, которые я на твоем месте спрятал бы или выбросил, и уж во всяком случае не стал бы включать в книгу. Неужели ты не слышишь, что Осеннее равноденствие — это не ты, а Бродский? — до такой степени Бродский, что даже неловко делается. В других стихотворениях он тоже иногда высовывается, а иногда — проглядывает…
Поэзия, спору нет, — игра, но только игра священная, обряд причащения к человечеству. Подчас игровой элемент у тебя перевешивает сакральный, жертвенный. Я говорю не только о рифме, но и о мысли: ловкий, блистательный силлогизм может стать у тебя существом стихотворения, — но мысли (в ее обиходном или даже аристотелевом значении), вообще головизны, — для поэзии совершенно недостаточно, как бы ни была хороша мысль сама по себе; жертва приносится и принимается, когда мысль неразрывно слита со звуком. (Опять: я говорю это больше для себя, чем для тебя, в полном убеждении, что тут мы согласны по каждому пункту.) К тебе все эти неновые истины имеют, по-моему, то отношение, что ты чаще, чем следует, приближаешься к алтарю (берешься за перо). Страдает целомудренное целое, которое поэт шаг за шагом выявляет в ходе своей жизни.
Я бы не стал выставлять над стихотворениями слишком расхожих эпиграфов типа «предоставь мертвым погребать своих мертвецов», тем более, когда эти всем известные слова прямо повторены в твоей строке, да еще не единожды. Скрытая цитата — сильнейшее лирическое средство, она возвышает стихотворение, переадресует его посвященным, а то и Богу. Ты это знаешь (например, строка «Иной, иной автомобиль…» в «Летит по улице янтарной…»), но словно бы не всегда.
Хороший корректор в некоторых местах поправил бы тебе графику. Сочетания кальвинова игра, виттенбергский богослов — пишутся со строчной, а не с прописной буквы; фраза, начатая после открытия скобок, завершается точкой перед их закрытием: (А—я.), а не (А—я)., — но это уж совсем мелочи, без которых дело никогда не обходится.
Поэзия, слов нет, жива только контекстом эпохи, а контекст этот создают сами же поэты, — но слишком откровенная ставка на контекст губительна. Символисты и обериуты живы сегодня только тем, что поднялось над созданными ими контекстами, — те же, кто берет готовый контекст, и вовсе не поэты (как хрестоматийный конформист Высоцкий). В твоем прекрасном стихотворении «Все дороги ведут куда-то…» (1985) строки «Не пойдешь по семидесятой — Будет сто девяносто прим.» и «Дорогая моя столица, Золотая моя Орда.» — бьют прямо в сердце, но только тех, кто сейчас помнит одну пошлую песенку — и самую советскую власть; через десять лет прелесть этих строк вовсе сотрется.
Не перечисляю того, что понравилось. По малому счету — понравилось все, по большому — многое, а по последнему — почти ничего: куски, ни одного стихотворения целиком. Ты очень другой, и любое из моих возражений должно казаться вздором с точки зрения твоей поэтики, — а никто не сказал, что твоя поэтика хуже моей, не говоря уже о стихах; стихи твои людям очень нравятся, и большинству — куда больше моих. Но все же говорить о стихах следует честно, а пустые славословия не нужны ни тебе, ни мне.
Я сразу же отвез твою книгу в Оксфорд профессору Джери Смиту, который занимается современной русской поэзией — и знает и ценит тебя. Другой экземпляр я подарил иерусалимке Наташе Розен, для которой ты вообще первый поэт современности (при получении она запрыгала от радости). Пристрою при случае и другие экземпляры в надлежащие места
На этом прощаюсь, обнимаю тебя и Лизу. Помню и люблю вас всегда, страдаю при мысли о ваших страданиях. Всегда твой,
Дорогая Лизочка,
как замечательно, что ты сумела убедить хозяина издать книгу. Он ленив и не понимает каких-то важных вещей. Он пишет: «Была иллюзия, что … книгу будут читать, и поймут, и вообще…». Разумеется, все так и будет, — но не сейчас же, когда доверие к поэтам полностью подорвано. Объясни ему это. Его книге суждена долгая жизнь, о ней будут писать диссертации, его стихи будут любить и заучивать наизусть пресловутые потомки, — но не раньше, чем схлынет всякая евтушенка (не говоря уже о парщинке и драгомощенке). Бывают такие периоды, когда поэтическое слово теряется в потоке бойких версификаций, — тем рельефнее оно обнаружится потом, когда пена спадет. Лёня поэт, и не столько милостью Божией, сколько твоей милостью, ибо родятся поэтами многие, а становятся — единицы. В его стихах я вижу не только его, но и твое лицо; твое присутствие окрашивает их совершенно необычайным, неповторимым светом. Именно большая женская любовь, как правило, делает из поэтически одаренных людей — поэтов. Так что от души поздравляю тебя с твоей книгой: она — замечательная.
Леня бесконечно прав, что не занимается своей славой, не становится ни к кому в хвост, не делает из стихов бизнеса; наше воздаяние — в самих стихах, которые — всегда молитва, всегда разговор с идеальным читателем — с тем, кто находится за пределами трехмерного мира: без него и стихов писать не стоит. Как сказал Боратынский: «…в горнем клире Звучен будет голос твой…»
Читаю и перечитываю описание твоих мытарств в лёнином письме — и сердце кровью обливается. Я понимаю, что любые мои слова будут не к месту, что разделить до конца и/или облегчить твои страдания любовью не могут даже самые близкие люди (так уж устроен человек), — а все же хочу сказать тебе, что ты всегда мне казалась человеком особым: на тебе словно бы покоится перст Божий, отмечающий избранничество. И страдания твои — тоже своего рода избранничество, со всею силой обнаружившее твое необычайное великодушие. Не знаю, утешительно ли слышать эти излияния, но я восхищаюсь тобою и люблю тебя всею душой.
Обнимаю тебя, дорогая, и помни, что ты нужна русской музе. Твой,
Yuri Kolker
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2BB
19 ноября 1994
Дорогие Лёня и Боря,
весь этот месяц мы не решались писать, понимая, что любые изъявления сочувствия, любые слова утешения — беспомощны облегчить ваше горе, ничто рядом с ним. Не сочтите наше молчание за черствость. Лизу мы любили и любим, она и вы — в числе самых близких нам людей. Таня плачет, продолжает изводиться тем, что так и не съездила к вам, хотя собиралась давно, да еще плюс к тому — этой досадной историей с посылкой цветов.
Лёнечка, когда оправишься, приезжай к нам погостить (зовём, конечно, и Борю, да только вряд ли вы соберётесь вместе, у молодёжи свои интересы).
Любим вас и помним о вас всегда. Ваши,
Yuri Kolker
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2BB
England
26.04.96
L. Epstein
399 Great Rd., #3
Acton, MA 01720, USA
Дорогой Лёня,
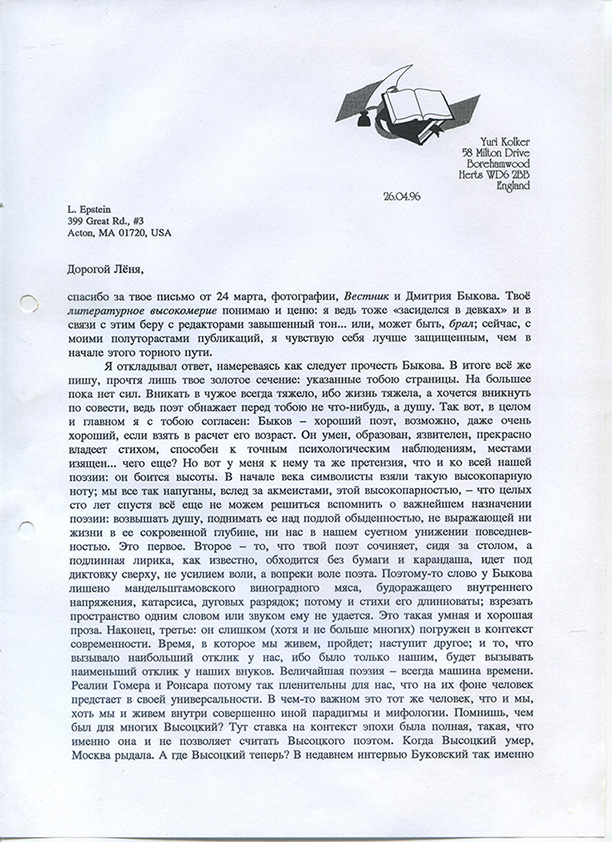
спасибо за твое письмо от 24 марта, фотографии, Вестник и Дмитрия Быкова. Твоё литературное высокомерие понимаю и ценю: я ведь тоже «засиделся в девках» и в связи с этим беру с редакторами завышенный тон… или, может быть, брал; сейчас, с моими полуторастами публикаций, я чувствую себя лучше защищенным, чем в начале этого торного пути.
Я откладывал ответ, намереваясь как следует прочесть Быкова. В итоге всё же пишу, прочтя лишь твое золотое сечение: указанные тобою страницы. На большее пока нет сил. Вникать в чужое всегда тяжело, ибо жизнь тяжела, а хочется вникнуть по совести, ведь поэт обнажает перед тобою не что-нибудь, а душу. Так вот, в целом и главном я с тобою согласен: Быков — хороший поэт, возможно, даже очень хороший, если взять в расчет его возраст. Он умен, образован, язвителен, прекрасно владеет стихом, способен к точным психологическим наблюдениям, местами изящен… чего еще? Но вот у меня к нему та же претензия, что и ко всей нашей поэзии: он боится высоты. В начале века символисты взяли такую высокопарную ноту; мы все так напуганы, вслед за акмеистами, этой высокопарностью, — что целых сто лет спустя всё еще не можем решиться вспомнить о важнейшем назначении поэзии: возвышать душу, поднимать ее над подлой обыденностью, не выражающей ни жизни в ее сокровенной глубине, ни нас в нашем суетном унижении повседневностью. Это первое. Второе — то, что твой поэт сочиняет, сидя за столом, а подлинная лирика, как известно, обходится без бумаги и карандаша, идет под диктовку сверху, не усилием воли, а вопреки воле поэта. Поэтому-то слово у Быкова лишено манделыштамовского виноградного мяса, будоражащего внутреннего напряжения, катарсиса, дуговых разрядок; потому и стихи его длинноваты; взрезать пространство одним словом или звуком ему не удается. Это такая умная и хорошая проза. Наконец, третье: он слишком (хотя и не больше многих) погружен в контекст современности. Время, в которое мы живем, пройдет; наступит другое; и то, что вызывало наибольший отклик у нас, ибо было только нашим, будет вызывать наименьший отклик у наших внуков. Величайшая поэзия — всегда машина времени. Реалии Гомера и Ронсара потому так пленительны для нас, что на их фоне человек предстает в своей универсальности. В чем-то важном это тот же человек, что и мы, хоть мы и живем внутри совершенно иной парадигмы и мифологии. Помнишь, чем был для многих Высоцкий? Тут ставка на контекст эпохи была полная, такая, что именно она и не позволяет считать Высоцкого поэтом. Когда Высоцкий умер, Москва рыдала. А где Высоцкий теперь?
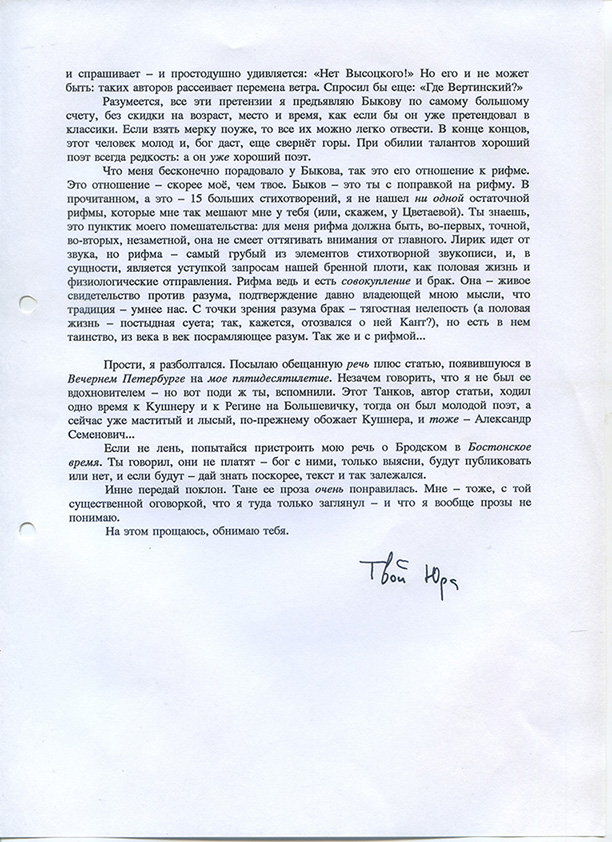 В недавнем интервью Буковский так именно и спрашивает — и простодушно удивляется: «Нет Высоцкого!» Но его и не может быть: таких авторов рассеивает перемена ветра. Спросил бы еще: «Где Вертинский?»
В недавнем интервью Буковский так именно и спрашивает — и простодушно удивляется: «Нет Высоцкого!» Но его и не может быть: таких авторов рассеивает перемена ветра. Спросил бы еще: «Где Вертинский?»
Разумеется, все эти претензии я предъявляю Быкову по самому большому счету, без скидки на возраст, место и время, как если бы он уже претендовал в классики. Если взять мерку поуже, то все их можно легко отвести. В конце концов, этот человек молод и, бог даст, еще свернёт горы. При обилии талантов хороший поэт всегда редкость: а он уже хороший поэт.
Что меня бесконечно порадовало у Быкова, так это его отношение к рифме. Это отношение — скорее моё, чем твое. Быков — это ты с поправкой на рифму. В прочитанном, а это — 15 больших стихотворений, я не нашел ни одной остаточной рифмы, которые мне так мешают у тебя (или, скажем, у Цветаевой). Ты знаешь, это пунктик моего помешательства: для меня рифма должна быть, во-первых, точной, во-вторых, незаметной, она не смеет оттягивать внимания от главного. Лирик идет от звука, но рифма — самый грубый из элементов стихотворной звукописи, и, в сущности, является уступкой запросам нашей бренной плоти, как половая жизнь и физиологические отправления. Рифма ведь и есть совокупление и брак. Она — живое свидетельство против разума, подтверждение давно владеющей мною мысли, что традиция — умнее нас. С точки зрения разума брак — тягостная нелепость (а половая жизнь — постыдная суета; так, кажется, отозвался о ней Кант?), но есть в нем таинство, из века в век посрамляющее разум. Так же и с рифмой…
Прости, я разболтался. Посылаю обещанную речь плюс статью, появившуюся в Вечернем Петербурге на мое пятидесятилетие. Незачем говорить, что я не был ее вдохновителем — но вот поди ж ты, вспомнили. Этот Танков, автор статьи, ходил одно время к Кушнеру и к Регине [библиотекарь Регина Серебряная приходилась двоюродной сестрой Эпштейну] на Большевичку, тогда он был молодой поэт, а сейчас уже маститый и лысый, по-прежнему обожает Кушнера, и тоже — Александр Семенович…
Если не лень, попытайся пристроить мою речь о Бродском в Бостонское время. Ты говорил, они не платят — бог с ними, только выясни, будут публиковать или нет, и если будут — дай знать поскорее, текст и так залежался.
Инне [второй жене Эпштейна] передай поклон. Тане ее проза очень понравилась. Мне — тоже, с той существенной оговоркой, что я туда только заглянул — и что я вообще прозы не понимаю.
На этом прощаюсь, обнимаю тебя.
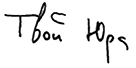
Your short story is brilliant, didn’t I tell you? It’s nice to hear your are having fun with Inna’s father: a rare occasion, isn’t it? Our Liza is a bachelor, at last, but without job and vistas. She’s no more Shprota but Govniza. Tanya proved to be an excellent driver but I still do not try. Why didn’t you invite us to join you in Italy? The rich do not mix with the poor? I make a living entirely by writings, mostly for the bloody bbc. Journals pay miserable fees but the old maniac can’t stop writing. My critiques have some response. The most recent victims were Aygi the Genius and Sedakova the Genius. Novyi Mir quotes me by pages and invites to contribute. Curiously, if we survive a decade more we perhaps will own Russian literature as now shestidesyatnics do. Do you have Russian decoders for Word files? Best wishes to Inna. Y.
T.Kolker
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2DD
UK
18 October 1997
Дорогой Леня,
Сегодня получила твое письмо от 12 октября, отвечаю на него немедленно. Юра сейчас в России, поэтому я не знаю, ответил ли он на твою июльскую емелю (так мы именуем электронные письма), которую я сейчас отыскала в списке, — или ты имел в виду более позднее послание, которое мы не получили? В любом случае, поздравляю тебя и Инну с покупкой дома, это чудесно, а Борю — с приобретением суки. Могу себе представить, сколько радости она ему доставляет! Ведь он даже в Англии, по сути дела, получал истинное наслаждение только от общения с нашим Федькой, никакие здешние красоты его не прельщали. Зато наш сукин сын впервые в жизни, наверное, получал столько внимания, что даже слегка уставал от обрушившейся на него нежности. В общем, я искренне рада за Борю, так как я сама ужасная собачница (впрочем, кошек я люблю не меньше). Да я вообще не понимаю, как можно жить в доме, где нет никаких pets, — такой дом мне представляется неуютным.
Ленечка, мне многие твои стихи очень понравились, но не все. Некоторые с моей точки зрения выглядят несколько надуманными, чуть механистичными. Но есть и совершенно замечательные: Проснувшись в ночи…; Фантомной памяти… (здесь, правда, первая и последняя строка тоже несколько искусственны, на мой взгляд, но в целом стихотворение хорошее); Тоскании пологие холмы; 24 мая 1997; Снова лето заполняет двор; Немножко музыки счастливой — последние два меня особенно тронули.
Мы с Юрой тоже много лет мечтаем съездить в Италию, в Рим, однако денег пока на такую поездку нет. Мы были 11 лет назад во Флоренции и в Венеции, да еще в Пизу съездили на денек, но до Рима не добрались, горючего не хватило (мы тогда вообще жили все время в долг). Кроме того, ездили мы зимой, в январе, было очень холодно, — я, например, запомнила дворец Дожей как одно из самых промозглых и неуютных мест на земле. Даже никакого Тинторетто мне там не хотелось смотреть — мечтала лишь о том, чтобы поскорее выбраться на улицу, где светило бледное, зимнее, но все же солнце. Но, несмотря на козни природы, вся поездка в целом осталась в памяти как волшебная сказка. Вот соберемся с духом (то бишь — с деньгами), и в следующем году, может быть, поедем-таки в Рим.
А в этом году мы в конце июля съездили на неделю в Девон, на юг Англии. Места там изумительно красивые, мы сняли в приморском городке Seaton гостиницу, и поездили по окрестностям. Юра так вообще первый раз за последние 2,5 года отдыхал. Но поскольку он подарил мне в минувшем январе машину, то теперь можно потихоньку осмотреть британские красоты. Мы ведь здесь живем восьмой год (а Юра — девятый), но ничего не видели, кроме Лондона. Юрка очень высоко оценил мои водительские способности (у него прав нет и он не собирается этому ремеслу учиться), и теперь он настаивает, чтобы мы и на континент на машине ездили. Но я боюсь — ведь эти полоумные континентальные европейцы ездят по правой стороне дороги!
Еще в сентябре меня приняли в одну языковую школу (для взрослых) в качестве преподавателя русского (нужно было не только пройти собеседование с начальством, но и провести пробный урок), но работы все еще нет. Так пока я занимаюсь тем, что перестелаю линолеум в кухне и собираюсь поменять ковер на лестнице. Не сама, конечно, наняла мужика (хэнди-мэна), но неделю потратила на беготню по магазинам в поисках дешевых линолеума и ковра. Но даже самые дешевые материалы плюс работа обходятся в такую кругленькую сумму, что я теперь с трепетом жду юркиного возвращения — а ну как убьет!? Но надо же это сделать когда-то (не убить, а отремонтировать!), ведь 7 лет назад мы въехали в дом, где уже все было старым и выношенным, да еще мои звери постарались на славу: кошки вечно кочат тогти обо все ковры, а Федька зимой приносит с улицы на лапах тонны грязи. И мыть его по 3 раза в день нет никакой возможности. Старый дом вообще требует бесконечных вложений: то крыша потечет, то отопление сломается, то стена протекает (трещина в ней образовалась) — да мало ли что еще с ним случается, всего и не упомнить за эти 7,5 лет. Я еще потому сейчас стараюсь сделать все в отсутствие Юры (пока он в России), что он ведь по большей части дома работает, и шум и суета, связанные с ремонтом в доме, ему будут мешать.
Я ведь еще не сказала, что поехал он в Питер (и в Москву на несколько дней) для того, чтобы походить по редакциям, выступить в музее Ахматовой (это выступление было запланировано несколько месяцев тому назад), но главное — найти место, где он мог бы издать свою следующую книжку стихов. Лариса Миллер и в Москве устроила ему выступление, которое намечено на 21 октября. Но Юра тебе сам, может быть, о своих делах напишет, когда вернется.
Лизка наша обакалаврилась, однако работу ищет очень лениво, а пока наслаждается жизнью, получая пособие по безработице. Ейный бой-френд только что защитил докторскую по истории (он постарше Лизки на 5 лет, но такой же инфантильный лопух, как она), так что ему тоже денежная работа не светит. Сейчас оба без работы, так что и снимать жилье, чтобы жить вместе (о чем они мечтают), им не на что. Юра мечтает о том же — чтобы Лизка куда-нибудь съехала, так как отношения у них вечно напряженные. Юра не выносит безделья и бездельников (непонятно только, почему меня больше четверти века терпит — я ведь ужасная лентяйка!), а наша бедная дщерь иудейская создана лишь для неги сладкой… но не для молитв! Кстати сказать, лизкин мальчишка — арабского происхождения. Его родители (отец — мусульманин, мать — христианка) уехали из Ливана в середине семидесятых, когда там разгорелась гражданская война. Отец, к тому же, был диссиденствующий журналист, так что даже в Лондоне в первые годы дети ходили в школу в сопровождении полицейских — Хамас (или Хезбалла?) всю семью грозились убить. Теперь, правда, мать мальчишки вернулась в Ливан, говорит, что там теперь спокойно и не страшно. Однако отец, кажется, не рискует возвращаться на родину насовсем, но бывает там часто.
Ну вот, Ленечка, и все наши новости. Приезжайте-ка вы с Инной к нам в гости; пока в доме хоть что-то новое и чистое, и гостей принимать не так стыдно. Мы, боюсь, в Новую Англию не скоро выберемся. Да и старую-то еще не видели как следует. Хорошо бы вот в Шотландию съездить, пока она не отделилась, а то ведь и визу скоро требовать начнут! Вы ведь знаете, что наше новое лейбористское (считай, социалистическое) правительство провело референдумы в Шотландии и Уэльсе, и скоро там будут свои парламенты. Да, сильно усох наш британский левушка, и зубы от старости повыпадали…
Заканчиваю, пока не уморила тебя своей бессвязной болтовней. Обнимаю. Сердечный привет твоей Инне, а также Боре. Поцелуй за меня суку Стэфи! Таня
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2BB
England
Tel./Fax: 0181 207 3616
E-mail: yuri@kolker.demon.co.uk
14.02.98
Leo Epstein
381 Old Beaverwood Rd
Acton, MA 01718
USA
Дорогой Лёня,
спасибо за письмо от 12 октября 1997. Надеюсь, ты получил танин ответ. Я верчусь как белка в колесе. В декабре был в Израиле, странным образом — в командировке от проклятых бибисей, где я всего-навсего внештатник. Отвёз Наташе Розен копию присланных тобою стихов, да заодно и поссорился с нею, что давно пора было сделать. Новостей — никаких, и это — слава Богу. Видел ваше жильё на фотографиях, присланных из Вены: задним числом поздравляю с новосельем. Чувство бездомности, о котором ты пишешь, знакомо и мне. Мы тоже всё время жили как на чемоданах — и в Питере, и в Израиле, а сейчас, вроде, дома. С Ларисой Миллер мы в тесном контакте не состоим. В октябре я на два дня заглянул в Москву (из Питера): чтобы забрать вознаграждение из Нового Мира и Нового времени (есть там такой еженедельник). Лариса устроила мне в каком-то клубе выступление под вывеской Редкий гость, а сама не пришла: заболела. Ее стихи мне определенно нравятся: естественностью интонации и отсутствием вкусовых срывов. Это честный второй ряд, континентальная плита культуры, жаль только, что Лариса (как, впрочем, и все мы) не понимает своего места. Недостаток ее стихов — их излишняя сиюминутность, сегодняшнесть. К завтрашнему дню они, боюсь, выветрятся.
Не знаю, ждешь ли ты от меня отзыва о твоих последних стихах. На всякий случай скажу, что думаю. Ты пишешь: «понимаю, что того напряжения души, которое когда-то вело, уже нет», — и я не стану тебе возражать. Плохих стихов ты написать не можешь, это понятно. Любая твоя продукция будет на голову выше евтушенок. Но роднит тебя с евтушенками вот что: отсутствие романа с языком. Это, впрочем, и к старым стихам относится, — а формулировка пришла мне в голову, когда я читал новые. Ты владеешь языком, владеешь стихом (и замечательно), но сознание этой власти с излишней отчетливостью проступает в тексте. Это не самодовольство, упаси бог, — а всё же что-то в этом роде. Отсутствует благоговейное удивление перед чудом поэзии, поэзии вообще — и твоей собственной поэзии, в частности. Отсутствует тяга к недостижимому идеалу. И дело тут не в прошедшей молодости. Пастернак всё лучшее написал в последние годы. Дело тут в том, что без поэзии ты можешь обойтись, а муза — ревнива. Что твое отношение к рифме для меня неприемлемо, я уже говорил тебе не раз. Здесь я тверд. Твоя рифма — промискуитет, «припадание на ложе» с первой встречной, — в точности как у евтушенок, — минутное пьяное объятье, за которое потом бывает стыдно. Здесь ты — весь в 60-х, будто с тех пор в нашем осмыслении мира через звук ничего и не сдвинулось. Такова моя критика, не сердись. Ты понимаешь, что она — по большому счету.
Десять дней назад получил я электронное письмо от Лии Геселевой: она спрашивала твой адрес. Тут я понял, что должен написать тебе, хоть две строчки. Всё это время твое октябрьское письмо в развернутом виде лежало у меня на столе.
В конце января мы с Таней вырвались на три дня на остров Джерси: отметить нашу официальную серебряную годовщину. Ездили с машиной. Таня прекрасно водит, а я вот так и не научился. Было холодновато, но замечательно. Вообще на Джерси климат лучше не надо: весь остров в пальмах.
На этом прощаюсь. Привет Инне. Всегда твой,
[подпись]
58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2BB
England
Tel.: 0181 207 3616
Leopold V. Epstein
381 Beaverbrook Rd.
Acton, MA 01718,
U.S.A.
1 февраля 1999
Боремвуд
Дорогой Лёня,
спасибо за письмо, стихи и фотографии. Время, проведенное в вашем доме, действительно, незабываемо. Спасибо тебе и Инне.
Спору нет, поэту лучше не теоретизировать, — и то, что я защищаю принципы (неважно, какие), защищаю разглагольствованиями, а не стихами, — моя слабость. Счастлив плодовитый поэт, который всё может сказать в стихах, — хотя верно и другое: «Обо всём в одних стихах не скажешь» (Ходасевич). Прав ты и в том, что поэт должен быть — «беспринципным (в меру); как Пушкин», — но легко сказать: «будем как солнце»! Мое «героическое противостояние жизнеспособной тенденции» — никакое не растрачивание жизни, наоборот: естественное для меня выявление той робкой индивидуальности, которая отпущена мне природой. Так сказать, «посильные соображения». Я не Пушкин, я всего лишь Колкер (с чем не так-то просто примириться). Точность, в моем узколобом понимании, есть служение идеалу, эстетическому и нравственному. Неточность есть цинизм, высмеивание идеала. Не довольно ли с нас этого высмеивания, этого цинизма, во внешней по отношению к искусству жизни? Между тем и этим должна быть граница. Далее, оттого, что постыдным тенденциям в искусстве, как их ни назови, сто лет в обед, они не становятся почтенными, и бороться с ними — долг честного человека. Верно, что борьба эта безвыигрышная. Но не всякая безнадежная борьба считается у людей напрасной. Я умру — но если я прилагаю усилия к тому, чтобы отсрочить день моей смерти, то такие усилия считаются у людей нравственными. То же и в искусстве. Оно мельчает и будет мельчать, но мало чести тому, кто способствует этому. Поэт преспокойно обходится вообще без рифмы (хотя без нее писать труднее), но «чем — червь» — всё равно ведь не рифма, а кукиш в кармане, кукиш Богу и людям. Неважно, что Бога нет (как, впрочем, и людей), а важно, что кукиш. Затем, это еще и самообман. Соседствующие строки не одной рифмой соединены, должна у них быть еще и внутренняя звуковая перекличка, помимо внешней, — ты ею и занят, когда уводишь созвучие вглубь (че — че, в твоем случае), оставляя клаузулы до уродливости несхожими, — но зачем при этом уверять себя и других, что это такая рифма? «Презираю вас всех и горжусь этим», — вот как это переводится в нравственный план. Не случайно чемпион по части таких фокусов — Евтушенко. Решаюсь думать, что и метафору с джинсами и пиджачными парами ты не развернул до конца. Настоящий ее смысл не в том, что жизнь стала демократичнее (чему мы все рады), а в том, что есть иерархия ценностей. Говорят, Ахматова, чувствуя приближение вдохновения, надевала свое лучшее платье и подкрашивала губы. В тот день, когда политическая корректность (или энтропия) восторжествует вполне, когда мы поверим, что низкое не ниже высокого, искусство прекратится, а с ним — и вид хомо сапиенс.
Теперь о твоих переводах [сонетов Шекспира]. Приступаю к критике, намеренно не заглядывая в подлинник, то есть говорю только о русских стихах.
(71) Червь — не сосед покойнику. Оставлять не в клаузуле значит чистить себя и Шекспира под Бродским. Помру и о, молю в близком соседстве — эклектизм, но совсем не пушкинский.
(74) Без права на свиданья — подлаживание к современности, прием, стоящий музы Высоцкого. В первом и третьем катрене — мужские и женские клаузулы, а во втором — только мужские, что звучит по-русски плохо (кажется компромиссом, нехваткой мастерства). Еда червей — неудача, если не безвкусица.
(91) Своею во второй строке — слово лишнее, наполнитель, говорящий о не-хватке мастерства. … собак, коней — два к подряд.
(97) После декабрем и плодом требуются запятые.
Безмерный живот — ребячество; огромный был бы выразительнее — и куда больше.
(116) Флаг — гордо реет на мачте; в бою берут знамя, штандарт.
Любви не ведом каждодневный страх,
Но знает Вечность…
— грамматическая нелепость и топорная работа. Неясно, подлежащее Вечность или дополнение. Туфта — конформизм, подлаживание под современность в расчете на немедленный отклик (то есть опять Высоцкий).
В Лондоне пока еще не голодно, но уже пасмурно. Лиза при нас. Свадьба сначала планировалась в декабре, потом — в апреле, а сейчас — в июле. Собрать арабских родственников в одном месте оказалось делом непростым. Ниму я написал немедленно после получения от тебя адреса — и не получил ни слова в ответ. Настроение у нас упадочное. Поганые бибиси молчат — таинственнее, чем любой восток. Возможно, с марта будем сосать лапу. Пойду в землекопы, если возьмут.
Не сердись на эту скоропись (и, упаси бог, не прими ее за учительность или высокомерие), наоборот, оцени мою обязательность: отвечаю в день получения.
Привет Инне. Обнимаем. Таня посылает фотографии.
Твой
[подпись]
10.02.99
Дорогой Лёня,
спасибо за письмо. Идеологический спор между нами уже ведется, и возник он не вчера. Мы, действительно, плохо слышим друг друга и по мере спора укрепляемся в своих позициях (а позиции отдают идеологией), но само по себе всё это еще не препятствие для разговора. Ты — один из самых умных людей, с которыми меня свела судьба, и твои соображения мне интересны даже тогда, когда я с ними не согласен. Именно поэтому я сейчас вглядываюсь в каждую посылку твоего письма — и возражу на то, с чем не согласен, — несмотря на твое обещание оставить мои доводы без возражений. Делаю я это не для того, чтобы последнее слово осталось за мною, а от потребности взвесить твои слова; мне проще думать, когда я пишу. Веское молчание иной раз куда убедительнее слов, — и я без обиды оставляю этот козырь тебе. Однако прежде, чем приступить, повторяю то, что писал в предыдущем письме (и чего ты не услышал): моя отрывочность и скоропись — не грубость, не провозглашение последней истины. Понимая, что у тебя нет досуга, я просто экономлю твои читательские силы. Почти каждую свою мысль я могу развить в трактат — но ведь ты поймешь меня и с полуслова: зачем же злоупотреблять твоим терпением? Теперь по пунктам.
Энтропия, точно, идет рука об руку с «единственно-правильными воззрениями», — но политическая корректность и есть современная форма этих воззрений. Она органически родственна духовному социализму. (Другой кровный родственник — движение зеленых.) Родство здесь вот в чем: на обложке — всё самое благородное (справедливость, равенство и т. п.), а под обложкой — попытка переиначить природу.
Этическое, действительно, неотрывно для меня от эстетического. Согласен: перебор здесь угадывается. Чувствуя его, не пытаюсь обосновать свою странность, — вероятно, и не смог бы. Мне хотелось поделиться с тобою этим моим странным представлением — и мне жаль, что ты в первую очередь увидел тут самолюбование. Возможно, ты бы не усмотрел такого, если бы знал, что я вовсе не считаю себя мерилом нравственности. Грешник часто почитает святость.
Эстетическая категория определена у меня плохо, согласен, — но, ей-богу, не знаю, что отталкивающего ты видишь в нравственной категории (вероятно, тоже плохо определенной). Кстати, понятия иной раз работают особенно плодотворно как раз пока они еще расплывчаты. В своей «ответной риторике» ты говоришь о творческой свободе. Опять без доказательства выскажу мою давнюю догадку о том, что свобода возможна только в непреступаемых границах. Отмена всех границ есть уничтожение всех форм, а с ними — и свободы (и уж во всяком случае искусства).
Усилия по отдалению собственной смерти нравственны. Нет человека, у которого не было бы близких, для которых его смерть — горе. Смерть большого человека — потеря для многих. Борьбу со смертью часто называют мужественной, — опять нравственная оценка. Самоубийство религия считает безнравственным (убивая свое тело, человек убивает и душу, средоточие нравственности). Пьяницу, который всего-навсего не щадит своего здоровья, а другим не мешает, общественное мнение склонно считать человеком не слишком нравственным.
Апологетов политической корректности я никогда не упрекал в безнравственности. Ты опять меня не услышал. Наоборот, я упрекаю их лишь в том, что нравственность они противопоставляют законам природы, фактам и здравому смыслу.
Верно, что в 50-60-е неточная рифма воспринималась как глоток свободы. Я сам отдал ей ужасающую дань. Твое замечание о возврате к более строгой рифме в 70-е в результате подъема национального самосознания кажется мне очень точным и глубоким. «Необразованность не приводит к добру» в отношении Евтушенка и Есенина — тоже замечательно верно. На слова «Как мне кажется, сейчас точные или неточные рифмы не несут этической нагрузки» — мне возразить нечего; это мнение. Мне кажется другое, вот и всё. Ты ближе к здравому смыслу, я же по видимости говорю недоказуемый вздор. Но мне всё-таки кажется. Ты выражаешь уже и вовсе безупречный здравый смысл, когда говоришь об относительности языка, о текучести его форм и ценности этих форм. В этом пункте сойдемся на том, что я увлекаюсь парадоксами и не люблю здравого смысла. В других случаях я его буду любить.
Искусство мельчает и будет мельчать, — говорю я, — и вот моя логика: Гомера, Данте и Пушкина не превзойти не потому, что не будет равных им талантов, а потому что Земля из центра мироздания превратилась в пылинку на окраине одной из миллиардов галактик. Бога не вернешь. Другие мои соображения тобою уже отвергнуты в наших спорах в Бостоне и Актоне. Ты не веришь, что в мире прибавляется суеты, и что в личностном отношении мы мельчаем. Тут я в затруднении. Я, например, скажу, что Аристотель был более целостной личностью, чем Ньютон, а ты скажешь, что питекантроп был в меньшей степени личностью, чем Аристотель, добавишь, что необразованность не приводит к добру, — и будешь прав. Но я вовсе не хочу додумывать свою мысль до конца. Я не мыслитель, я пророк в исконном смысле этого слова: бесноватый. Мне кажется, что мы идем к человечьему супу, когда между мною и тобой нельзя будет провести четкой грани (и наши взгляды, из-за которых мы сейчас готовы поссориться, окажутся на поверку неотличимыми).
Об упадке русской словесности говорил не только Шишков, но и Пушкин, и оба были правы. Кривая имеет максимумы и минимумы, но общая тенденция — вниз.
Я не упрекаю тебя за любовь к Бродскому, и эту любовь (у тебя) не считаю конформизмом (ни о том, ни о другом в моем последнем письме вообще речь не шла), — я упрекаю тебя за то, что твои стихи похожи на стихи Бродского. Я слышу в твоих стихах интонации Бродского. Что до твоей «способности к эстетической оценке Бродского», то, естественно, я ставлю ее ниже моей — до тех пор, пока я с тобою не согласен, — и ты, по совести говоря, платишь мне тем же. Ты не стал бы спорить, если бы не считал, что ты знаешь лучше.
Дмитрий Быков очень талантлив, но меня, например, его стихи совсем не поразили, а только порадовали. Твой повышенный интерес к нему мне совершенно понятен: тут опять похожесть, хотя и другого рода. Вы оба норовите в стихах рассуждать, конструируете свои стихи, не слишком интересуетесь звуком, тяготеете к повествованию — и берете совершенно обыденный срез языка.
Насчет Цветкова — не знаю… Не личный ли магнетизм ты привносишь в оценку его стихов? Спору нет, ранние — очень хороши, да и слово гений не отвергаю — потому что оно теперь недорого стоит. А я вот перечитывал недавно Кублановского — и не могу не восхищаться им, — при всей его человеческой чуждости и непривлекательности, при его православии и любви к России, которые в других случаях мне так мешают.
Мой разбор твоих стихов тебя задел — и совершенно напрасно. Тут-то разговор был совсем уже не идеологический, не отвлеченный, а самый конкретный, — и я, грешным делом, думал, что по-дружески помогаю тебе. Ведь чего же и стоит дружба поэтов, если они друг друга не критикуют? Когда нет критики, когда произнесено только нравится или не нравится — стихи не прочитаны. Похвалы тоже уместны, но мне казалось, что их в наши годы уже позволительно выносить за скобки или приберегать для иерархически более высокого текста, например, рецензии.
Говоря: «поэзия — звучащее искусство», ты ломишься в открытые двери. Здесь с тобой согласны все. Я же хочу оттенить тот факт, что оно — не только звучащее, а также то, что со временем звук меняет свое качество: сначала (в древности) стихи только пели, затем декламировали нараспев, а сегодня проговаривают про себя или шепотом. Хорошие стихи полностью не убить плохой графикой, но хорошая графика подчеркнет их достоинства и облегчает это современное исполнение.
В хороших стихах ты не замечаешь рифмы — прекрасно! Так же точно и я. В этом-то всё и дело. Рифма — служанка, положение у нее подчиненное, она должна делать свое дело незаметно, аккуратно и честно, а не лезть на глаза господину (звукосмыслу).
Ты не первый, кто говорит мне, что я «мешаю себе свободно творить». Слово в слово то же мне сказал Межиров, когда гостил у нас в Боремвуде. Но я не вижу несвободы в формальных ограничениях. То чувство несвободы, которое ты и Межиров находите в моих стихах, есть просто мера моего дарования. Вы хотели бы, чтобы я был талантливее. Спасибо.
Стихотворение «Я не люблю Россию, не люблю» не попадает в число моих лучших и любимых. Но я понимаю, за что ты его отличаешь.
Прости и ты: не для художника, а для политика (и его современников) опасно поверить, что он «знает, как надо». Наоборот, если у художника есть сомнения в своей конечной правоте, то нам позволительно усомниться в том, что он художник.
В моем подходе (разборе) нет ничего научного и «сальеристского», он только детален. Ты ведь не хуже меня знаешь, что два к подряд твоего перевода не украшают. Но вдохновение опьяняет, и ты мог этого не услышать. Подобная глухота случалась и с Пушкиным. Один раз его поправил, страшно вымолвить, Булгарин — и Пушкин принял поправку.
Ругательств в моем разборе твоих переводов нет никаких — нет даже тени ругательств. Наоборот, ты вежливость принял за ругань. Категоричности и поучений там тоже не было, была профессиональная скупость на слова, природу которой я там же, в том письме, и подчеркнул, а в настоящем письме — подчеркнул и разъяснил, чтобы ты опять не усмотрел в моих словах лишнего.
Не правда, что ты не самолюбив. Ты «поражен» именно потому, что ждал восхищения. Восхищения у меня твои переводы не вызвали, виноват. Но ведь ты, насколько я тебя знаю, не член клуба «давайте говорить друг другу комплименты». Я отдал уважительную дань твоему таланту, я был некогда увлечен твоими стихами, — а, скажем, стихами Ахматовой — не был. Чего же еще? В этом смысле всё сказано. Ты не можешь ждать, что каждая твоя очередная работа непременно будет вызывать у меня взрыв восторга. Неудачи бывают у всех.
Не вижу, почему указать тебе на пропущенные запятые — нелепость, а не помощь. Большинству писателей сегодня корректора нанимать не на что, — но если б и было на что, то я, грешный, его бы на пушечный выстрел к моим сочинениям не подпустил. С какой стати чужого человека пускать к себе в постель? Времена культурных корректоров, корректоров-литературоведов, понимавших стихи и деликатно обсуждавших их с автором при подготовке книги, — проехали вместе с советской властью; нам их не досталось. Я вынужден быть сам себе корректором, привык к этому, дорожу этим и давно уже хочу отвечать за каждую закорючку в моём тексте. Но я с благодарностью выслушаю замечания, затрагивающие звук, смысл и графику моих сочинений, во-первых, от Тани, во-вторых, от двух-трех поэтов, моих друзей, чьим мнением я дорожу. Ты в их число попадаешь.
«Глазами, налитыми кровью», — уж не обижайся, — скорее ты читал мое письмо, чем я твои переводы. Да и с чего бы мне? Я проделал ту работу, которую неоднократно проделывал со стихами других поэтов, — и только. Ты скажешь, что ты не просил меня об этом. Но тогда метр ты, а не я. Профессионал ждет от другого профессионала, находящегося с ним в одном классе, профессиональных замечаний. Другое дело, если класс разный. Тут критика снизу рассматривается как надругательство (как «ругательства без грубой речи», говоря твоими словами), как оскорбление величества — и влечет за собою гнев и ярость, столь явственно у тебя звучащие. Приходится допустить, что ты ослеплен до самолюбования.
Классицизм никогда, насколько я вижу, не стоял над схваткой, а всегда оборонялся, — раньше сверху, из дворца, сегодня — снизу, из катакомб.
«Ловля блох» и есть дружественная оценка. Любая другая, не столь мелочная оценка со стороны не полного единомышленника, сколь бы вежливо она ни была обставлена, на деле свелась бы к рекомендации писать не так, как ты пишешь, а так, как я пишу, что куда обиднее. Такова идеологическая часть нашего спора — и на нее ты не обижаешься. Замечания же мои именно конструктивны: показывают, как можно улучшить твои переводы. И что же я слышу в ответ?
Метафора с переодеванием — не более чем метафора; это не теоретическое обобщение, покрывающее все случаи жизни, — поэтому Пушкин, Набоков и Толстой здесь ни при чем. Моя схема работает. На свадьбу, особенно на свою собственную, никто из твоих коллег в джинсах не придет. Одежда в иных случаях отражает уровень душевного состояния. Пусть, однако, это плохая метафора, — тогда обойдемся без метафор и просто вспомним, что в литературе иерархия высказываний — реальность. Стихи «Я помню чудное мгновенье» выражают более высокую правду, чем написанное в тот же день частное письмо того же автора, где дан другой портрет той же дамы.
Соболезнования по поводу нашего любимого короля Хуссейна приняты. Народ скорбит над прахом Иорданского Льва. В остальном жизнь прекрасна и удивительна. С начала года я два раза играл в теннис. Своего партнера, который на 20 лет моложе, я побеждаю. Начал я играть и в настольный теннис — с бывшей чемпионкой Карелии, которую тоже бью (по правде сказать, женщина она немолодая и несколько оперированная). Кроме того, я беру уроки вождения. В январе мы с Таней были в Германии, у моей сестры и племянника: в Рурском бассейне, в городе Дуйсбурге, а оттуда съездили еще и в Бельгию: в Антверпен и в Гент. В Германии издается с десяток русских газет, из них 4-5 — вполне приличного уровня.
На этом прощаюсь. Счастливо отдохнуть, и — поправляйся. Таня шлет привет тебе и Инне.
Твой Юра
Дорогой Лёпа,
спасибо за стихи Быкова. Они при любом раскладе очень хороши. И, заметь, это та самая поэтика, которую я люблю. А вот чего я не люблю: хвастовства. Стихи для меня скорее жалоба, чем марш из Аиды. Допускаю, что дело тут во мне, а правда не со мною. У меня-то жизнь не удалась, и похвастаться нечем, вот я и стал нытиком. И еще я не люблю гладкописи внутри этой самой моей поэтики, а Быков к ней склонен (хоть и не в этих стихах). Он стихи пишет за столом, и романа с языком у него нет. С этими оговорками — лучших стихов не надо, они замечательны.
С удовольствием вспоминаю наши встречи в Бостоне и окрестностях.
Обнимаю тебя. Привет Инне.
Твой Юра
Я, Лёнечка, сейчас никому не пишу, но тебе отвечу. Банда четырех [Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева] — действительно банда: они почти ровесники, несут на плечах определенное время, и уже этим выделены, а двое из них в добавок вышли из одного кружка. Разумеется, все оценки условны. Я сейчас не люблю ни одного из четырех, но общественное мнение выделяет их, а не других. И я с этим мнением склонен соглашаться. Здесь приходится брать в расчет многое: и объем написанного, и то, как поэт нес свое вдохновение, и человеческие качества. Достаточно ли двух-трех замечательных стихотворений, чтобы считаться поэтом? Со времени романтиков человеческая судьба поэта — одно из главных его произведений. Во времена Вийона можно было отделить тексты от автора; так все и делали; а теперь не удается. Поэзия перестала быть ремеслом.
Относительно названных я вижу вот что. Блок — слишком внутри символизма; значительная часть написанного им выветрилась. Талант его был громаден, но мастерства не хватало. Он стареет быстрее прочих.
Есенин и Маяковский мелки по пробе вдохновения и человеческому масштабу. Оба позеры.
Ходасевич — мой любимый (в XX веке) поэт и мой ориентир. Критерий проверки временем он выдерживает лучше всех, потому что был умнее названных (исключая Ахматову). Но ум в поэзии иногда мешает, говорю это не в шутку, а всерьез, и размах крыльев у Блока шире, чем у Ходасевича. Так я чувствую. И тут приходится выбирать, кому что дороже. Мне дороже прочность.
Гумилев в твой список попал по недоразумению. Он поэт второго, если не третьего ряда. Его судьба — гениальна. Только на ней он и выезжает. Стихи мертвы (и дурно пахнут). Даже Есенин лучше, даже Маяковский значительнее.
Анненский — отчасти дутая фигура. Он часто скован, неестественен, надуман. Вот пример очень большого таланта, которому не суждено было развернуться. Держится он отчасти благодаря постаменту, на который поставили его акмеисты. Впрочем, здесь я менее уверен в себе, чем в прочих случаях. Я Анненским не переболел и изнутри его не чувствую.
Если тебе показалось, что я категоричен, то это неверно; я просто пытаюсь быть кратким. Всё сказанное — не более чем мои соображения на текущий момент.
Передай от меня привет Маре. Я бесконечно благодарен ей и Саше. Она кажется мне замечательным человеком.
Спасибо за рассказ. Ты знаешь, он для Колокола [лондонский фурнал для богатых; выходил в 2001-2003 годы; я состоял при нём помощником редактора и владельца А. И. Шлепянова, — Ю. К.] великоват, но изредка печатаются и большие вещи. Я сделаю, что от меня зависит. А мне он очень нравится.
Твое предыдущее письмо. Да, оно меня задело. Ты в сущности, совершенно прав там, даже во всем прав, и твоя правота меня скорее поддержала, чем задела; не прав ты только по тону. Не стоит говорить так с человеком, которому плохо, даже если сам ты пережил несопоставимо больше. Тон этот показался мне знакомым: я сам говорил так с людьми, пока почва не стала уходить из-под ног.
Обнимаю.
Твой Юра
Спорить, так спорить. Дело-то общее.
Появился Лермонтов. Никогда не забуду моего первого детского впечатления от его стихов: подделка, вторичность. После Пушкина он был ненастоящий. Русская литература — и вся-то переводная, а тут — перевод с перевода. Так это и осталось. Добавилась — волна отвращения, когда уже на склоне лет я внимательно перечитал «Уланшу». Это как раз тот случай, когда трех изумительных стихотворений — мало; теряются в потоке чепухи. Согласен с Боратынским: «О стихах его говорить нечего...» (дальше объясняется, откуда заимствована его проза; мы первоисточника не прочли). Чувство языка? «Из пламя рожденное слово». Хорошо, что не из вымя.
Гумилев. Пришли мне одно его стихотворение, из тех, где гармония. Я всегда готов изменить отношение к лучшему.
Есенин. У меня яблони всегда шли отдельно, а дым отдельно. Не люблю, когда жгут деревья. Строка мне кажется отвратительной, пошлой. Гений? Ты знаешь мое отношение. Это слово ничего не значит. Говорит больше о страсти и упорстве, чем о таланте. И о пристрастии. «Там, в России, дворянский бич, был наш строгий отец, Ильич; а на востоке, здесь, их было двадцать шесть...»
Маяковский талантливее Ахматовой? Прощаю, как не простить. Но Гитлер был еще талантливее. Какой народный отклик! Да и фигура покрупнее; место в истории — рельефнее. Не на русской обочине... Талантливы все или почти все. Мы сравниваем результат, не так ли? У Маяковского он отвратителен (мне). Вижу заносчивого карлика, который грязненькую любовь на скрипки ложит.
Жуковский и чувство слова. Он был очень культурен (и потому — антипод Есенина), внимательно прочел немцев («гений чистой красоты») и аккуратно их пересаживал, немцем (как Тютчев) не стал, всё же наполовину турок, — но слово у него вялое, и его Ростам и Зораб (из Шах-наме) — плохая проза, а не стихи, ремесленная поделка.
Будь здоров, не грусти. Твой Юра
В ответном письме Эпштейн объясняет мне, что Есенин вовсе не жёг яблонь; что его «с белых яблонь дым» — иносказание. Тут я понял, что наши отношения зашли в последний и окончательный тупик — и отвечать не стал.