

В отзыве 1977 года, который здесь привожу, Кушнер называет меня ленинградским поэтом, что, разумеется, дерзоcть, вызов, брошенный в глаза советскому начальству. Поэтами разрешалось называть только членов союза советских писателей, стихотворцев, утверждённых государством. Великодушный жест! Кушнер возвышает до себя человека из низов, без роду и племени, только что не тунеядца. Правда, я у Кушнера — всего лишь ленинградский поэт, не поэт без эпитета: снижение из стратосферы на городской булыжник, но начальству такие тонкости были не по уму. И не только начальству. Многие каким-то образом не видят, что слово поэт сопроводительных слов не терпит, любые эпитеты пересиливает и отталкивает — в точности как слово пророк. Сказать «ленинградский пророк» или даже «иерусалимский пророк» — смешно. Назвать Пушкина великим русским поэтом значит дважды его унизить.
С юности, почти с детства я пребывал в густой толпе поэтов с эпитетами и сам был частью этой толпы. Первым встреченным мною поэтом без эпитета оказался Кушнер. Это я почувствовал сразу, едва судьба свела нас в 1971 году. Спустя год или два, оглядевшись, я пришёл к выводу, что он и вообще единственный поэт в богоспасаемом отечестве. Второго не было. Из некоторых тогдашних поэтов с эпитетами должны были получиться и потом получились поэты; некоторых уже состоявшихся поэтов (их было раз-два и обчёлся) я не заметил, потому что заметил Кушнера, а путеводная звезда бывает только одна.
Я напросился к Кушнеру в ученики и под его плетью в течение четырёх лет прошёл суровую выучку. Ничего лучшего нельзя было вообразить. Как знаток поэзии и как наставник Кушнер далеко превосходил знаменитого Глеба Семёнова, у которого сам некогда состоял в учениках. Московский литературный институт кажется мне жалкой говорильней рядом с крохотным замкнутым кружком, который в начале 1970-х Кушнер вёл в библиотеке при фабрике Большевичка.
Кушнер, единственный среди живущих, оставался моею путеводной звездой и позже, в эмиграции. Не раз и не два приходилось мне отстаивать его имя и его поэтику перед теми, кто не понимал Кушнера или завидовал ему. Не раз и не два меня упрекали в подражании Кушнеру, о чём вспоминаю не то что без горечи, а с удовольствием. Наше несходство не бросалось в глаза только слепому. Даже в годы моего преданного ученичества я не мог принять и полюбить поэтическую мечту Кушнера во всей её полноте, без купюр. Подружиться мы с ним так и не смогли, зато ссориться начали рано и в новом веке рассорились навсегда, но развели нас не личные обиды, даже не полная противоположность характеров и темпераментов, а несогласия эстетические и этические в их неслиянном двуединстве. Ничего другого и случиться не могло. Место поэзии в контексте культуры и в душе человеческой, место поэта в мире людей — мы понимали слишком по-разному.
В ноябре 1977 года Кушнер пишет отзыв о моих стихах по предложению издательства Советский писатель, где моя рукопись с положительной рецензией Майи Борисовой лежала с декабря 1971 года и всё ещё «дорабатывалась». Издательской кухни я никогда не понимал. Не знал, зачем потребовалась вторая рецензия. Знал и понимал одно: меня пущать не хотят — и, странно вымолвить, видел в этом правду, правоту властей предержащих, потому что день ото дня, с каждым новым стихотворением, всё больше чувствовал себя человеком без эпитета, всё меньше — советским человеком. Я знал, что моя книга напечатана не будет. Рецензия Кушнера ничего тут изменить не могла. Не могла она и во мне что-то изменить: и его похвалы, и его возражения давно уже были мне известны. В этом смысле его отзыв значил для меня мало, меньше отзыва чужой и незнакомой Майи Борисовой. При громадной, через всю жизнь пронесённой общей благодарности Кушнеру за его наставничество, никакой специальной благодарности за отзыв я не чувствовал, наоборот, чувствовал в самом факте отзыва что-то неправильное, чуть ли не ненавистный мне протекционизм, пресловутый советский блат: разве учитель не похвалит ученика?
Вот этот отзыв:
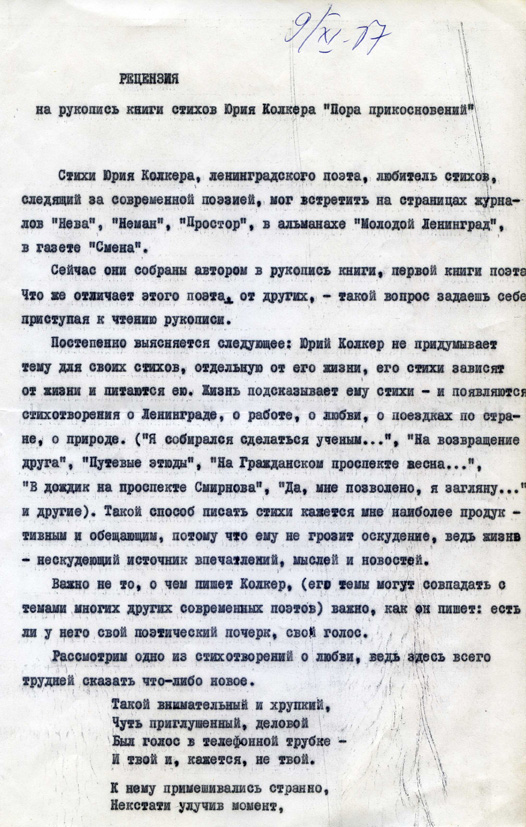
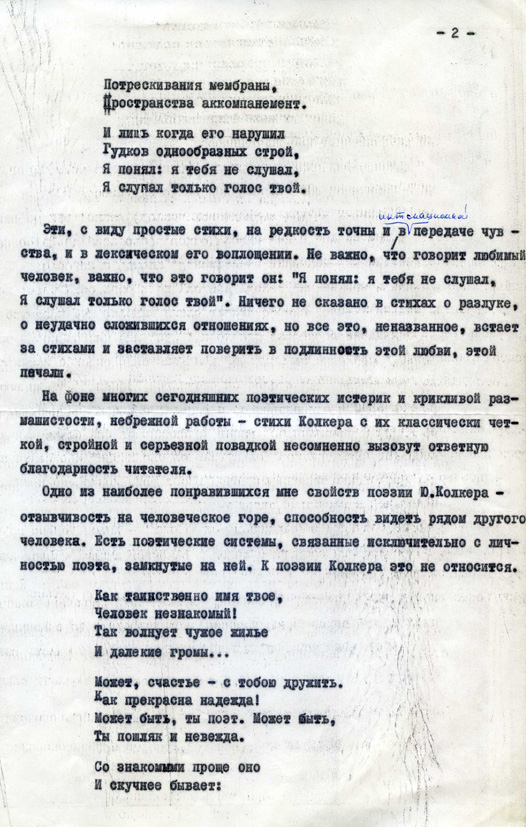
Стихи Юрия Колкера, ленинградского поэта, любитель стихов, следящий за современной поэзией, мог встретить на страницах журналов "Нева", "Неман", "Простор", в альманахе "Молодой Ленинград", в газете "Смена" [ошибка; мне ничего не известно о публикации моих стихов в этой газете, — Ю. К.].
Сейчас они собраны автором в рукопись книги, первой книги поэта. Что же отличает этого поэта от других, — такой вопрос задаешь себе приступая к чтению рукописи.
Постепенно выясняется следующее: Юрий Колкер не придумывает тему для своих стихов, отдельную от его жизни, его стихи зависят от жизни и питаются ею. Жизнь подсказывает ему стихи — и появляются стихотворения о Ленинграде, о работе, о любви, о поездках по стране, о природе. ("Я собирался сделаться ученым..", "На возвращение друга", "Путевые этюды", "На Гражданском проспекте весна…", "В дождик на проспекте Смирнова", "Да, мне позволено, я загляну…" "Поскрипыванье снега под ногой…", и другие). Такой способ писать стихи кажется мне наиболее продуктивным и обещающим, потому что ему не грозит оскудение, ведь жизнь — нескудеющий источник впечатлений, мыслей и новостей.
Важно не то, о чем пишет Колкер, (его темы могут совпадать с темами многих других современных поэтов) важно, как он пишет: есть ли у него свой поэтический почерк, свой голос.
Рассмотрим одно из стихотворений о любви, ведь здесь всего трудней сказать что-либо новое.
|
Такой внимательный и хрупкий, Чуть приглушенный, деловой Был голос в телефонной трубке — И твой и, кажется, не твой. К нему примешивались странно, Некстати улучив момент, Потрескивания мембраны, Пространства аккомпанемент, И лишь когда его нарушил Гудков однообразных строй, Я понял: я тебя не слушал, Я слушал только голос твой. 1975 |
Эти, с виду простые стихи, на редкость точны и в интонационной передаче чувства, и в лексическом его воплощении. Не важно, что́ говорит любимый человек, важно, что это говорит он: "Я понял: я тебя не слушал, Я слушал только голос твой". Ничего не сказано в стихах о разлуке, о неудачно сложившихся отношениях, но все это, неназванное, встает за стихами и заставляет поверить в подлинность этой любви, этой печали.
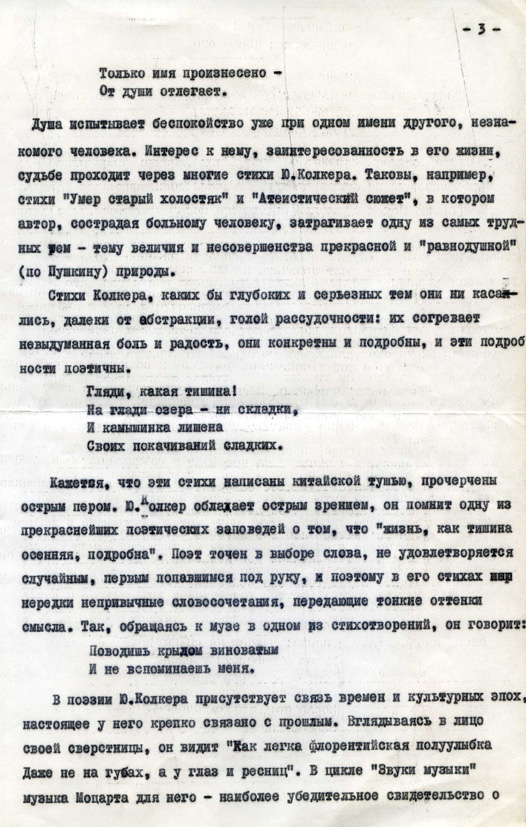
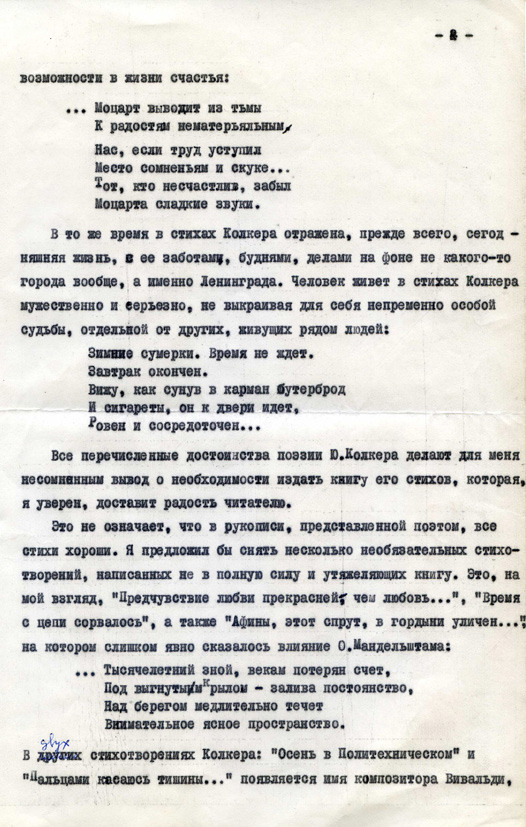
На фоне многих сегодняшних поэтических истерик и крикливой размашистости, небрежной работы — стихи Колкера с их классически четкой, стройной и серьезной повадкой несомненно вызовут ответную благодарность читателя.
Одно из наиболее понравившихся мне свойств поэзии Ю.Колкера — отзывчивость на человеческое горе, способность видеть рядом другого человека. Есть поэтические системы, связанные исключительно с личностью поэта, замкнутые на ней. К поэзии Колкера это не относится.
|
Как таинственно имя твое, Человек незнакомый! Так волнует чужое жилье И далекие громы… Может, счастье — с тобою дружить. Как прекрасна надежда! Может быть, ты поэт. Может быть, Ты пошляк и невежда. Со знакомыми проще оно И скучнее бывает: Только имя произнесено — От души отлегает. |
Душа испытывает беспокойство уже при одном имени другого, незнакомого человека. Интерес к нему, заинтересованность в его жизни, судьбе проходит через многие стихи Ю.Колкера. Таковы, например, стихи "Умер старый холостяк" и "Атеистический сюжет", в котором автор, сострадая больному человеку, затрагивает одну из самых трудных тем — тему величия и несовершенства прекрасной и "равнодушной" (по Пушкину) природы.
Стихи Колкера, каких бы глубоких и серьезных тем они ни касались, далеки от абстракции, голой рассудочности: их согревает невыдуманная боль и радость, они конкретны и подробны, и эти подробности поэтичны.
|
Гляди, какая тишина! На глади озера — ни складки, И камышинка лишена Своих покачиваний сладких. |
Кажется, что эти стихи написаны китайской тушью, прочерчены острым пером. Ю.Колкер обладает острым зрением, он помнит одну из прекраснейших поэтических заповедей о том, что "жизнь, как тишина осенняя, подробна". Поэт точен в выборе слова, не удовлетворяется случайным, первым попавшимся под руку, и поэтому в его стихах нередки непривычные словосочетания, передающие тонкие оттенки смысла. Так, обращаясь к музе в одном из стихотворений, он говорит:
|
Поводишь крылом виноватым И не вспоминаешь меня. |
В поэзии Ю.Колкера присутствует связь времен и культурных эпох, настоящее у него крепко связано с прошлым. Вглядываясь в лицо своей сверстницы, он видит "Как легка флорентийская полуулыбка Даже не на губах, а у глаз и ресниц". В цикле "Звуки музыки" музыка Моцарта для него — наиболее убедительное свидетельство о возможности в жизни счастья:
|
…Моцарт выводит из тьмы К радостям нематерьяльным Нас, если труд уступил Место сомненьям и скуке… Тот, кто несчастлив, забыл Моцарта сладкие звуки. |
В то же время в стихах Колкера отражена, прежде всего, сегодняшняя жизнь, с ее заботами, буднями, делами на фоне не какого-то города вообще, а именно Ленинграда. Человек живет в стихах Колкера мужественно и серьезно, не выкраивая для себя непременно особой судьбы, отдельной от других, живущих рядом людей:
|
Зимние сумерки. Время не ждет. Завтрак окончен. Вижу, как сунув в карман бутерброд И сигареты, он к двери идет, Ровен и сосредоточен… |
Все перечисленные достоинства поэзии Ю.Колкера делают для меня несомненным вывод о необходимости издать книгу его стихов, которая, я уверен, доставит радость читателю.
Это не означает, что в рукописи, представленной поэтом, все стихи хороши. Я предложил бы снять несколько необязательных стихотворений, написанных не в полную силу и утяжеляющих книгу. Это, на мой взгляд, "Предчувствие любви прекрасней, чем любовь…", "Время с цепи сорвалось", а также "Афины, этот спрут, в гордыни уличен…», на котором слишком явно сказалось влияние О.Мандельштама:
|
…Тысячелетний зной, векам потерян счет, Под выгнутым крылом — залива постоянство, Над берегом медлительно течет Внимательное ясное пространство. |
В других стихотворениях Колкера: "Осень в Политехническом" и "Пальцами касаюсь тишины…" [никогда не публиковалось, — Ю. К.] появляется имя композитора Вивальди, зарифмованное со словом "на асфальте", что, между прочим, напомнило мне такое же сочетание в одном из стихотворений Г.Семенова из его книги "Сосны", но дело даже не в повторении этого, лежащего на поверхности мотива. Просто возникает ощущение, что Вивальди здесь присутствует не сам по себе, а в качестве условного "поэтизма".
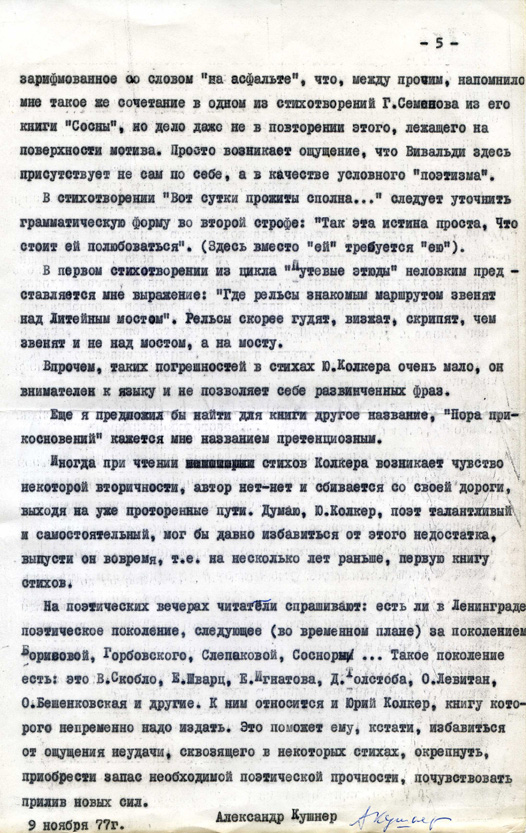
В стихотворении "Вот сутки прожиты сполна…" [основательно переработано, — Ю. К.] следует уточнить грамматическую форму во второй строфе: "Так эта истина проста, Что стоит ей полюбоваться" (Здесь вместо "ей" требуется "ею").
В первом стихотворении из цикла "Путевые этюды" неловким представляется мне выражение: "Где рельсы знакомым маршрутом звенят над Литейным мостом". Рельсы скорее гудят, визжат, скрипят, чем звенят и не над мостом, а на мосту.
Впрочем, таких погрешностей в стихах Ю.Колкера очень мало, он внимателен к языку и не позволяет себе развинченных фраз.
Еще я предложил бы найти для книги другое название, "Пора прикосновений" кажется мне названием претенциозным.
Иногда при чтении стихов Колкера возникает чувство некоторой вторичности, автор нет-нет и сбивается со своей дороги, выходя на уже проторенные пути. Думаю, Ю. Колкер, поэт талантливый и самостоятельный, мог бы давно избавиться от этого недостатка, выпусти он вовремя, т. е. на несколько лет раньше, первую книгу стихов.
На поэтических вечерах читатели спрашивают: есть ли в Ленинграде поэтическое поколение, следующее (во временном плане) за поколением Борисовой, Горбовского, Слепаковой, Сосноры … Такое поколение есть: это В.Скобло, Е.Шварц, Е.Игнатова, Д.Толстоба, О.Левитан, О.Бешенковская и другие. К ним относится и Юрий Колкер, книгу которого непременно надо издать. Это поможет ему, кстати, избавиться от ощущения неудачи, сквозящего в некоторых стихах, окрепнуть, приобрести запас необходимой поэтической прочности, почувствовать прилив новых сил.
9 ноября 77г.
Александр Кушнер

Книгу мою не издали. «Неудача», если взять слово из отзыва Кушнера, оказалась полной. Последние надежды исчезли ещё до отзыва Кушнера, о чём свидетельствуют стихи августа 1977 года «Плачь, мой город, я был тебе сыном!», которые выговорилиcь у меня против моей воли и меня самого испугали, но не пытками и лагерями, а разрывом с традицией. Разве можно так писать о городе Пушкина, Блока, Анненского? В 1978 году я сам забрал мою рукопись из Совписа.
Вместе с тем моя «неудача» оказалась и судьбоносной: с неё началась главная удача моей жизни. Мы с Таней и раньше задумывались об эмиграции, даже анкеты брали, и как раз в 1977, да отложили подачу заявления, засомневались, кляну моё малодушие; а тут я спросил себя с последней прямотой: стоит ли дорожить обществом, которое столь откровенно выталкивает меня? Моё ли это общество? Разве любовь к родине не исходит из взаимности? Ведь и любовь к матери начинается с любви матери. И ещё: что связывает меня с этим народом, с этой страной? Резать пришлось по живому. Пересмотр ценностей вышел мучительный, зато радикальный. Афганская война поставила в нём последнюю точку. В январе 1980 года я бросил псевдо-учёную работу в институте с апокалиптическим именем, ушёл в кочегары (поступок головокружительный в обществе, насквозь пронизанном мещанскими предрассудками) и стал, теперь уже без оглядки, добиваться разрешения на эмиграцию. Тут у меня начался «прилив новых сил», и какой! Мой парижский двухтомник Ходасевича, начатый с нуля, был подготовлен за два года. Мою Айдесскую прохладу читают уже вторую четверть века.
В отзыве Кушнера есть критика, на которую мне легко было бы возразить, — это искушенье отметаю с порога. Подчёркиваю именно мою благодарность Кушнеру, хоть я и разлюбил его в новом веке. Отзыв, вызвавший у меня некоторую неловкость в 1977 году (разве следует учителю хвалить ученика?), сейчас, перечитанный спустя десятилетия, значит для меня больше прежнего. При этом интересна и важна мне отнюдь не характеристика моих стихов, пусть и благожелательная. Бог с ними со стихами, я к ним охладел, и к стихам Кушнера, и к моим, и вообще к стихам. Лета́ шалунью рифму гонят. Интересны и важны мне два нравственных суждения, веско прозвучавших в отзыве Кушнера.
Кушнер пишет: «Человек живет в стихах Колкера мужественно и серьезно, не выкраивая для себя непременно особой судьбы, отдельной от других, живущих рядом людей». Верно, в стихах это так, но похож ли я на моего лирического героя? И откуда взялся этот лирический герой?
В словах Кушнера заключена его собственная тогдашняя жизненная программа, для которой есть и другая формулировка, много раз в те годы произнесённая: «Поэт — человек, окликнутый в толпе». Нового тут немного. Это переложение пушкинского Пророка и пушкинского Поэта применительно к советскому времени. Правило с поправкой читается так: будучи окликнут в толпе и осознав себя окликнутым, не называйся пророком и поэтом; призвание не права твои увеличивает, а долг; живи как жил, не ищи льгот и выгод, они и вообще не к лицу поэту и пророку, а в обществе бесправных позорны. Отчасти это — возражение серебряному веку с его взвинченностью и экзальтацией, возражение Брюсову и Блоку, Есенину и Маяковскому, больше Москве, чем Петербургу, но и Петербургу тоже, включая Ахматову; всем русским поэтам начала XX века; но в первую очередь — крикливым советским рантье от поэзии, московским государственным стихотворцам 1970-х, декламаторам на подмостках Политехнического музея, с их площадной, фельетонной правдой и жеманной, фиглярской рифмой; тем, к кому, думающий Ленинград семидесятых относился с открытым презрением.
Кушнер, с которого я брал пример, отвечал в 1970-е годы этому требованию: жить мужественно и серьёзно. Стихи его написаны так, как если б советской власти не было вовсе, как если бы она разве что угадывалась театральным задником в дождливой и пасмурной петербургской акварели. Не замечает в своих стихах Кушнер и пузырей земли: московской ярмарки тщеславия, равно десятых и семидесятых годов, стоит к этой ярмарке даже не спиной, — к чему такая ярмарочная поза? — а боком. Так писал в те годы и Валерий Скобло, первым упомянутый Кушнером в его списке поэтов моего поколения; так писал Александр Житинский, — у этих двоих я тоже учился, жадно перенимал их нравственно-эстетический опыт… Так писала изумительно одарённая Татьяна Котович, погубленная этим гадостным временем и местом. Не продолжаю моего списка; называю только тех, кто был мне по-настоящему дорог… Занятно, что стихотворная Москва, показушная, фрондировавшая, но насквозь советская, остро ощущала своё непризнание на берегах Невы. Сохранилась ревнивая московская шутка той поры: «стихи бывают хорошие, плохие и ленинградские, про которые не знаешь, хорошие они или плохие». Своим остриём она нацелена в Кушнера. Москвичи не «знали», да и как им было «знать»? Они выросли под сенью бронзового Маяковского, они рукоплескали Вознесенскому и Евтушенке.
Я не считаю себя мужественным человеком, не числю мужества среди моих первых природных качеств; и уж совсем лишён суровости, этой этикетки мужества. Но хороший солдат — солдат хорошо мотивированный. Я был хорошо мотивирован в первой половине 1970-х: верил в живые силы тогдашнего общества, в непременное крушение большевизма, в блистательное возрождение России Пушкина, пусть и не при моей жизни. Служить этому будущему возрождению я готов был всею кровью; и тою, что в жилах, и тою, что — из жил. Я верил, что уже и служу ему, притом лучшим из всех мыслимых способов, ведь нет ничего более благородного и возвышенного, чем русская просодия, русская поэзия. Отношение к родному языку было у меня молитвенным, отношение к окружающим и к себе — эгалитарным… и, конечно, я считал себя русским вполне и до конца, не стыдился этого имени, гордился им… Никто не мог тогда предвидеть, что крушение большевизма — дело десяти-пятнадцати лет; что на смену Совдепии придёт Путляндия; что русский язык, эта мировая константа, за десять лет после дебольшевизации изменится сильнее, чем за предшествовавшие полтора века. Никто, за это ручаюсь, не поверил бы в 1970-е года, что к началу нового века Пушкин умрёт в сознании «русского народа», потому что русского народа — не окажется… Но это к слову. Частное определение Кушнера точно характеризует мои стихи с задержкой по фазе лет этак на пять. Человек в моих стихах, а с ним и я, жил мужественно и серьёзно в 1972 году. В 1977 году поведение моего лирического героя, а с ним и моё поведение (потому что этих двоих без скальпеля не разделить), диктовалось уже отчаяньем; если угодно, мужеством отчаяния.
Страх перед КГБ у меня к этому времени пропал. Я не боролся с большевизмом вместе с НТС и другими подпольщиками только потому, что не понимал и не любил политики с её дисциплинированными коллективами единомышленников, зато в 1977 году открыто говорил и писал такое, за что хватали и сажали. Страх пропал у меня потому, что нравственная правота в моём конфликте с миром большевистского помрачения была, редкое дело, целиком на моей стороне. Моя мотивация была стопроцентной. Власть, не позволяющая напечатать лирическое стихотворение, не имела права на существование. Погибнуть в сознании своей правоты было не страшно, почти упоительно. Мой лирический герой, мой сиамский двойник, опять вел себя мужественно, но это было другое мужество, не то, что имел в виду Кушнер.
Ещё интереснее выходит с кушнеровской серьёзностью. Кому и чему он отказывает в серьёзности? Стихотворным острословам? Губерману и его частушкам? Не только: всем носителям и всем формам цинизма в поэзии, всем проявлениям «поэтических истерик и крикливой размашистости», а значит, и всему так называемому авангарду, Хлебникову и Маяковскому, авангарду десятых годов и семидесятых годов, городскому фольклору с гитарой, современным Барковым, конъюнктурщикам вроде Геннадия Айги или Льва Рубинштейна, обэриутам и их последователям в 1970-е, имя же им легион. Жизнь — дело серьезное, с неустранимой трагедией; лирические стихи — разговор о жизни, близкий к исповеди; в стихах не должно быть ни показухи, ни эстрады, ни ёрничества, ни мата, которым бравируют пошляки из московских салонов, ни романтической позы, ни гигантомании, ни презрения к читателю, — вот серьёзность по Кушнеру, мною вполне разделяемая… Конечно, названные мною имена для Кушнера ничего не значили; как раз именно серьёзность не позволяла их замечать. Но одно имя было у него на устах и в душе: Бродский. Только к нему Кушнер испытывал ревность, только с ним спорил. Поэтика Бродского отличается от поэтики Кушнера как раз пониманием серьёзности, мною здесь обрисованным, и я допускаю, что говоря о серьёзности в стихах, Кушнер попутно, а то и подсознательно, возражал ещё и Бродскому.
И второе. Кушнер пишет: «Одно из наиболее понравившихся мне свойств поэзии Ю.Колкера — отзывчивость на человеческое горе, способность видеть рядом другого человека». Здесь я тоже с Кушнером: не в смысле оценки моих стихов, а в том, что человеческое тепло в сочинении возвышает сочинение, и шире: что эстетика не может быть вполне отделена от этики. Корень у них общий. Истина, добро и красота в своей сущности нерасторжимы.
Да, лирический герой моих стихов начала 1970-х отзывчив. И ведь это не герой романа, которого можно выдумать. Лирический герой выражает мечту о себе. Я был отзывчив не только в стихах. Мой круг общения был необычайно широк; мой дом был открыт для всех и каждого; друзей у меня было множество; бескорыстная помощь была нормой моего поведения, душевной потребностью… Я называл себя в ту пору толстовцем… Откуда же взялось теперешнее, по Ходасевичу:
|
Слышать я вас не могу. Не подступайте ко мне. Волком бы лечь на снегу! Дыбом бы шерсть на спине! |
Как из доброго я стал злым? Как так вышло, что «всех моих друзей я оттолкнул без видимой причины»?
Я искал Бога, искал не в коллективе, а в душе (для чего же и стихи существуют?), я видел и ненавидел мои человеческие пороки, пребывал в отчаяньи от моего человеческого малодушия и скрыть этого не хотел… — «вот и ответ»! Человек, не щадящий себя, — неудобный друг. При доброте самой пылкой он ведь и к своим друзьям будет требователен.
И вот на наших глазах… — хм, за какие-нибудь сорок лет, срок исторически пустяковый, даром что поэты так долго не живут… — толстовец, человеколюб и богоискатель, альтруист и эгалитарист, проникнутый верой в народ и состраданием ко всем и каждому, готовый с себя последнюю рубашку снять ради ближнего, мечтающий о жертвенном служении человечеству, да что там! верящий, что служит, что сеет разумное, доброе, вечное, — в один прекрасный день превращается в нелюдима, отшельника и человеконенавистника. Как тут не вспомнить Дорогу жизни Боратынского?!
…Но, конечно, всё это и прозой можно выразить: с годами человек черствеет…
9-12 декабря 2015,
Боремвуд, Хартфордшир
помещено в сеть 12 декабря 2015